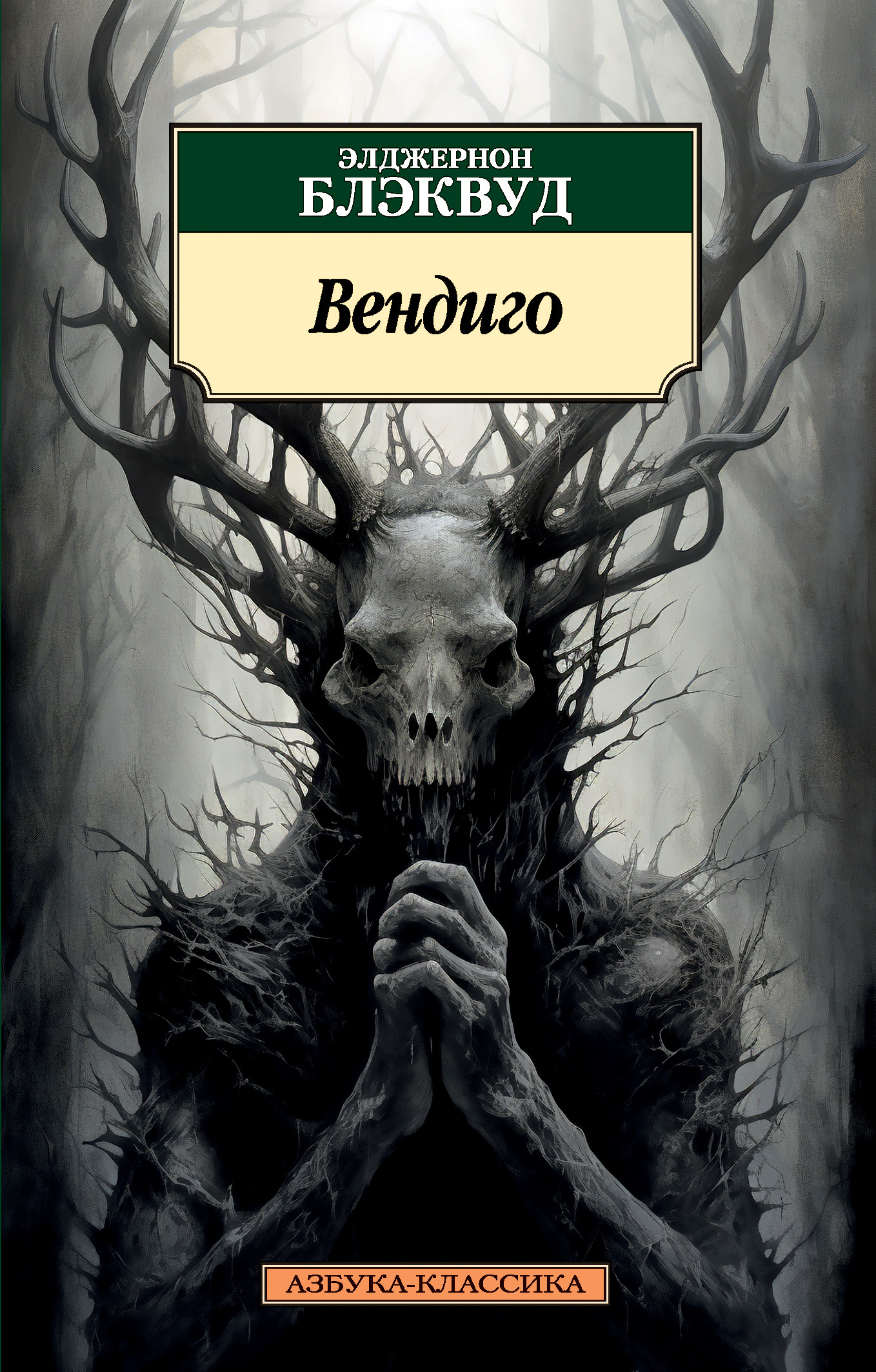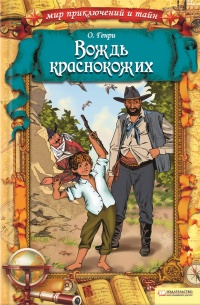Щеглы водились, ответил он, даже ого-го как водились, водились еще на его памяти, но в последние тридцать лет их становилось всё меньше и меньше, и вот теперь почти совсем не осталось. А чего удивляться, если их все ловят. «Вот если бы приняли такой закон, чтобы нам стало нельзя их ловить, надо думать, они бы снова расплодились». Я высказал надежду, что такой закон скоро примут, на что он хмыкнул и покачал головой. Закон, однако, приняли, и из Сомерсета приходят утешительные вести: говорят, в окрестностях Уэлса снова замечали щеглов. Отрадно видеть, как наши графства друг за дружкой включаются в дело охраны этих прелестных и полезных пташек. Передо мной на столе лежит небольшая карта с закрашенными красным графствами, где щегол обеспечен круглогодичной защитой – на трех четвертях территории Англии ичУэлса эта птица сегодня может жить спокойно. Как результат мы имеем повсеместный рост численности щегла, но пройдет еще немало лет, пока будет восстановлено их прежнее количество. О прежних масштабах можно судить из нижеприведенных строчек из «Сельских прогулок верхом» Уильяма Коббета[33], описывающих его путешествие по Уилтширу из Хайворта в Мальмсбери. Дело было восемьдесят лет назад, и долгая дорога истребления только начиналась.
Между Сомерфордом и Окси обочина дороги буквально кишела щеглами; их было столько, что, думаю, если сложить всех щеглов, увиденных мной за всю предыдущую жизнь, их нужно было бы умножить на пятьдесят. Семя чертополоха – любимое лакомство щегла – в эту пору как раз созрело и перезрело. На возделанных землях чертополох встретишь редко – его выпалывают и сносят, зато на обочинах он растет в изобилии. На него-то и слетелись все эти стайки. На протяжении целых полумили щеглы порхали в воздухе, лепились по земле и кустам, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что вся стая насчитывала около десяти тысяч птиц.
Коббет прав, называя семя чертополоха любимым лакомством щегла; настолько прав, что однажды один орнитолог обвинил в сокращении численности щегла новые методы ведения у нас в Англии сельского хозяйства, оставляющие мало шансов чертополоху и тем самым лишающие щегла его естественной кормовой базы, что ставит птицу на грань вымирания. Тезис был подхвачен и с тех пор кочует из книги в книгу. Но скажите, о, премудрые орнитологи, чем, по-вашему, щегол питается остальные девять месяцев в году? Как он выживает без своей естественной пищи? И как он живет в чужеродной среде клетки без своего чертополохового семени? Между тем мне известен случай одного несчастного узника, проведшего в своей проволочной клетушке целых восемнадцать лет. Да и сами заявления музейных и кабинетных мужей о бедственном положении чертополоха не выдерживают никакой проверки. Старый добрый сорняк отлично себя чувствует. Еще задолго до принятия Акта девяносто четвертого – девяносто пятого годов, давшего местным властям полномочия вводить меры по охране птиц, я много раз оказывался в настоящих царствах чертополоха, чем в Южной Англии становятся заброшенные овечьи пастбища и меловые холмы, на которых когда-то возделывалась пшеница. Так вот, исходив целые мили таких царств под солнцем июля и августа, насмотревшись на сотни акров порыжелого чертополоха со сверкающим пуховым плюмажем и, несомненно, «перезревшим семенем», я, увы, не встретил на них ни одного щегла!
Но довольно, пора возвратиться в Райм-Интринсеку – деревеньку, удерживающую меня одним своим роскошным именем, – к ее камерному обществу из дюжины щеглов, в данный момент с беспокойными криками порхающих у меня над головой – очаровательная картинка, воскрешающая перед моим внутренним взором еще более яркую картину-воспоминание из прошлого. Кому не знаком тот сильнейший эмоциональный эффект, который в нас порой вызывают ароматы детства? Так вот, воздействие звуков и зрительных образов иногда может быть не меньшим, как и было со мной на этот раз, словно порхающие комочки в черных, золотых и малиновых ливреях своими разгневанными криками ввели в церковный двор яркий до ощущения реальности мир моего детства. Спустя столько лет я снова был маленьким мальчиком в далекой земле моих первых шагов, в ее октябре, месяце, когда великолепная весна перетекает в знойное лето. Развевая дивный аромат, ветер шумел в высоких черных тополях, к которым я пришел ради колонии из дюжины черногрудых чижей. Хотя здешние птицы лишь черно-золотые, без малиновых участков спереди головы, для англоговорящих жителей этой далекой страны они всё равно щеглы, тем более, что манерой летать, повадками, страстью к чертополоху, пением и пискливыми криками тревоги они вылитые щеглы, какими мы их знаем в Англии. И пока я по очереди облажу все тополя, они вьются вокруг, точь-в-точь как эти, в Райм-Интринсеке, вспыхивая золотом перьев в солнечных лучах и возмущенно вопя, ведь там, в кронах, меж тонкими ветвями и стволом, прячется то, что мальчику интереснее всего: изящные, мшистые на ощупь, выстланные пухом чашечки, и в каждой – набор блестящих жемчужных яиц!
Следует новая картинка. Память переносит меня в один из безжалостно огненных ноябрьско-декабрьских дней, к большому колодцу, куда, насколько хватает глаз, со всех концов бескрайней, бездревесной, запекшейся до рыжины равнины, стекаются тысячные стада коров, лошадей и овец. Я вижу мальчика-индейца, понукающего огромного коня, впряженного в брезентовый ковш, и взрослого мужчину, который принимает показавшийся ковш за ручку и умелым движением направляет поток воды в длинные деревянные поилки. Но самое интересное – это звериная армада: стада и отары, еще до полудня примаршировавшие сюда со всех концов грандиозного плаца без единой заплатки тени, на котором последняя лужица в последнем пруду слизана до последней грязной капли. Они идут стройными рядами, они переходят на бег, они мчатся, сломя голову! Какой разгул буйства! Какое месиво из рева, мычания и мелкого блеяния над месивом брыкающихся тел! Как ужасны удары рогов и страшен град копыт, лупящий по жестким шкурам! Как одуряющ блеск и запах воды, как много их, и как узка поилка!
Но вот водопой окончен, столпотворение рассеялось, больше никто не дерется; даже овцы, которые добираются до воды последними, уже утолили жажду и исчезли в мареве степи; и тогда к лужам, оставшимся по краям длинных деревянных поилок, слетаются целые тучи мелких птиц. Кого здесь только нет: крошечные хохлатые овсянки; сверкающие фиолетовым коровьи трупиалы; всех возможных мастей всякие разные прочие трупиалы, эти «скворцы Нового Света»; тиранновые мухоловки, словно из детской раскраски: оливково-зеленые, желтые, каштановые, черные, белые, и проч., и проч.; а еще голуби и целые компании всевозможных вьюрковых. И, главное, мои любимцы-щеглы, перелетающие группками с места на место под непрестанный пронзительный аккомпанемент требовательного крика голодного молодняка.
И каков контраст между двумя