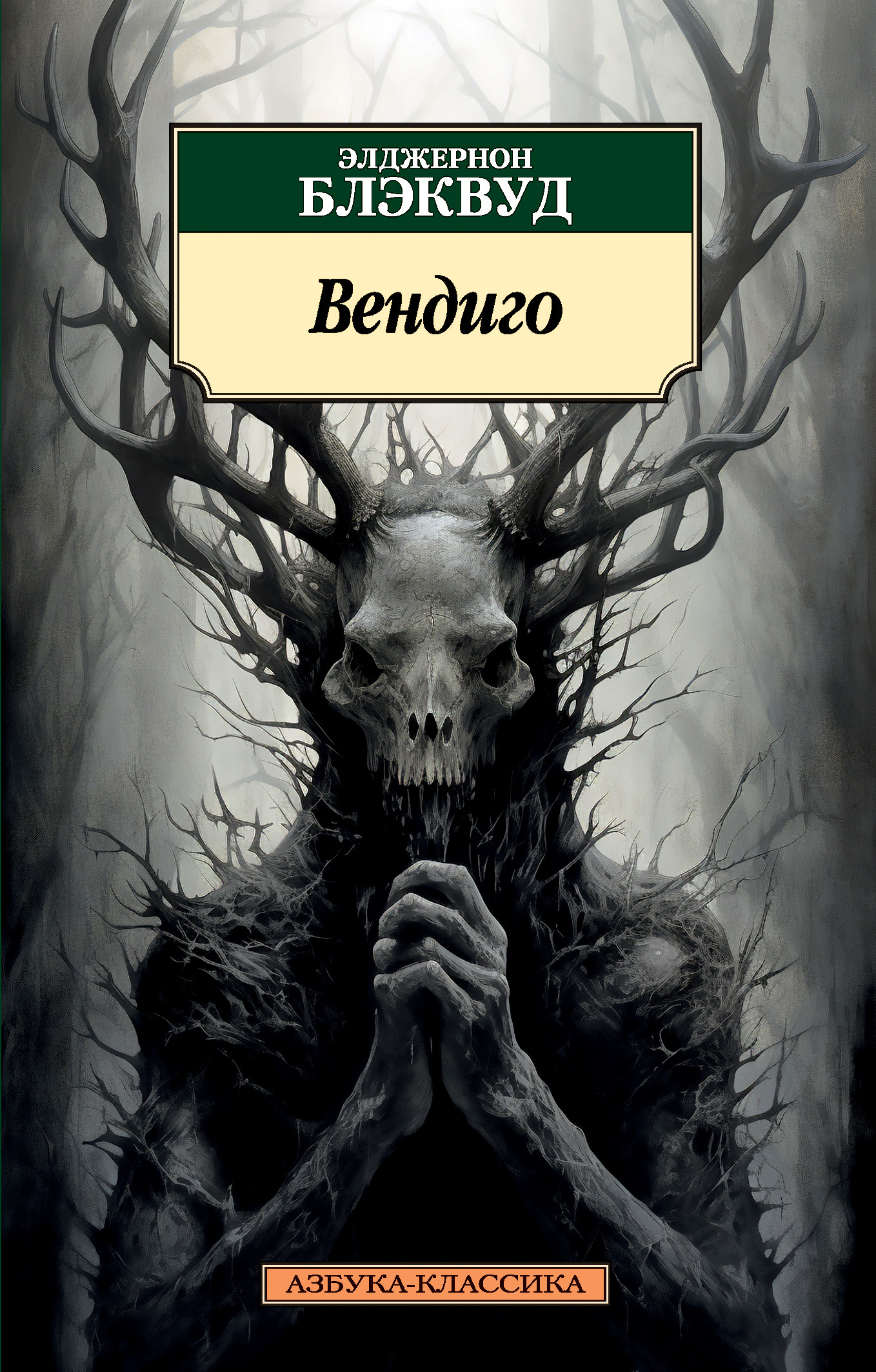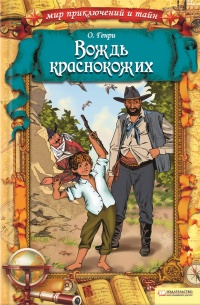свой повесил?
Был вечор ты всем доволен
Стал печален ты иль болен?
Сладко голос твой звучал
Отчего же в нем печаль?
Что как суровую нить
Цепью с шелка заменить?
Как убого, как искусственно! Каждая строка словно глухо бьет по ушам тяжелыми, тупыми, деревянными рифмами – бух, бух, бух! Я взялся цитировать это лишь по той причине, что ни один поэт поискусней (для достижения лучшего результата нужно было добавить хотя бы щепотку искусства) в нашей литературе как не переводил стихотворение Мелендеса, так и не брался за похожий сюжет. Между тем, в нашей лирике полно стихотворений на птичью тему, многие из которых относятся к вершинным образцам поэзии, но ни одно из них – ни у Вордсворта, ни у Хогга, ни у Шелли, ни у Мередита, ни даже у помянутого Суинберна (хотя его ода про сизую чайку просто великолепна) – по причинам, расписанным выше, не дает мне полного эстетического наслаждения.
Из меня плохой переводчик, как и пересказчик, тем более что вне стихотворения с его исполненностью чувств и возвышенным языком испанский сюжет, боюсь, выглядит достаточно примитивно, если не сказать смешно. Тем не менее, на страницах ниже я попробую передать его прозаический подстрочник, и пусть читатель передоверит его своему воображению в виде легкокрылого стихотворения на, пускай, неизвестном языке, разъясняющем внутреннему глазу и уху описанные сцены и звуки: всполошенные движения и метания, пронзительные крики возбужденной птицы и вызванные ими чувства отзывчивой госпожи, которые столь же порывисты, как чувства ее пленницы, и так же подчинены биению сердца.
Стихотворение начинается с того, как однажды Филлис застает своего щегла в состоянии удивительного возбуждения, восстания против судьбы; в агонии борьбы с прутьями клетки.
У Филлис чуткое сердце и простая душа, она любит птиц с детства и, несмотря на замужество, продолжает находить в них источник потаенного, самого дорогого в жизни счастья.
Но что так ранило ее щегла? Почему он непрестанно мечется по клетке, почему колотит клювиком по прутьям? Почему он то взлетит, то сядет на пол, то начнет бегать из стороны в сторону, то, прильнув к проволоке, обхватит ее своим игрушечным ротиком и тянет, изо всех сил тянет, словно надеется, что его тщедушных сил будет достаточно, чтобы сломать ее? Ему не дано ни сломать клетку, ни отогнуть ее прутьев, но и остыть не дано, и вот, обессилев в неравной борьбе, он протискивает головку на волю и продирается, рвется сквозь узкое отверстие, обрушивая на прутья изнутри шквалик своих крылышек. Затем, немного отдышавшись, он удваивает свои жалкие потуги и, уже совсем потеряв голову от бессилия, начинает бессмысленно носиться по клетке, пока само железо не бросает в дрожь от его страсти.
Ах, пташечка моя, – плачет добрая Филлис, ошеломленная и подавленная поведением своего любимца. – Разве я заслужила от тебя такой награды?! Пожалуйста, перестань, тебе это не идет! Как не похож твой привычный нежный щебет на это новое, острое, ранящее! Увы, я знаю, что с тобой. Не бойся, милая пташка, моя любовь к тебе не померкнет – не думай, что минуты непокорности сотрут из моей памяти былые дни очарования, что, осерчав и налившись презрением, я неблагодарно прикажу убрать тебя с глаз долой. И пускай эти руки поили тебя и кормили, отбирая для тебя самые изысканные кусочки, пускай эти пальцы нежно ласкали твои перышки, пускай эти губы целовали тебя в клювик, они не стоят твоей благодарности, как не стоят ее ни моя забота, ни моя любовь. Да и толку с этой любви, толку с того, что нет в моей жизни слаще восторга, чем слушать твои сладкие заливистые трели и твое щебетание, если я – твоя тюремщица, лишившая тебя дома, вольного неба и счастья: дорогой подруги, которую бы ты встретил! Откуда тебе быть счастливым, почем ты можешь знать, что эта рука, угождающая всем твоим желаниям, но однажды совершившая самое худое в твоей жизни, не совершит чего-то еще худшего и не заточит тебя в клетку, которая еще тесней?
Увы, мне знакома твоя боль, ведь я тоже пленница, оплакивающая свою горькую судьбу, и пускай мои оковы увиты цветами, их тяжесть от того не легче и горе не слаще. Я рано осталась сиротой, а когда мне не было еще семнадцати, меня, вопреки моей воле, выдали замуж в чужой дом. Тот, кто стал моим мужем, оказался ко мне добр и даже больше. Он стал для меня братом, другом, страстным любовником, он защищает меня, носит на руках, боготворит. Мое слово в его доме – закон. Но я несчастлива. Его забота, его подарки – совсем как в нашей с тобой любви, когда, поднявшись на крыла́х твоей красоты и волшебного голоса, я зову тебя милой пташкой, и ты спешишь заботливо прихватить мой палец своим клювиком, взмахивая крыльями, как будто распахивая объятия; или как когда я нежно беру тебя в ладони и, поднеся к колышущейся груди, целую так, словно хочу вдохнуть в тебя всю мою жизнь!
Не так ли и тот, кому я принадлежу, когда в самозабвении страсти прижимает меня к груди, когда осыпает золотом и драгоценными камнями, когда дарит красивые вещи и выдумывает самые невероятные развлечения, только бы угодить мне, не раздумывая, отдаст жизнь за ту, что значит для него больше, чем целый мир, – его госпожу, его суженную, его королеву? Всё тщетно, всё! Я слышу голос внутри, который говорит мне: «Пленяет ли это тебя? Смягчает ли хоть на каплю твое заточение?» О нет, ни на каплю, но лишь горьким соком питает мою вечную тайную горечь!
Так и ты, моя пташка, сполна платишь мне за любовь и нежность, и твои стенания – словно ранящие острые копья: ты осыпаешь меня ими за свою бесцветную судьбу, к которой я тебя приговорила. Так и ты оплакиваешь свою отнятую свободу и расправляешь крылышки, горящие пламенем полета.
И, расправляя, натыкаешься на клетку. Так не должно быть, нет. Сердце мое пронзено твоей мольбой. Лети, дорогая пташка, попутного тебе ветра. Моя любовь больше не может противиться мольбе, которая исполнена такой страсти и которую так легко исполнить. Лети и вкуси то отныне доступное тебе счастье, которое дает свобода и которое (увы!) навеки недоступно мне.
С этими словами Филлис открывает клетку, и щегол волен лететь. Он летит, и глаза Филлис наполняются слезами. Сквозь дымку слез она проводит его взглядом до тех пор, пока крохотная точка не растворяется в небе. Но