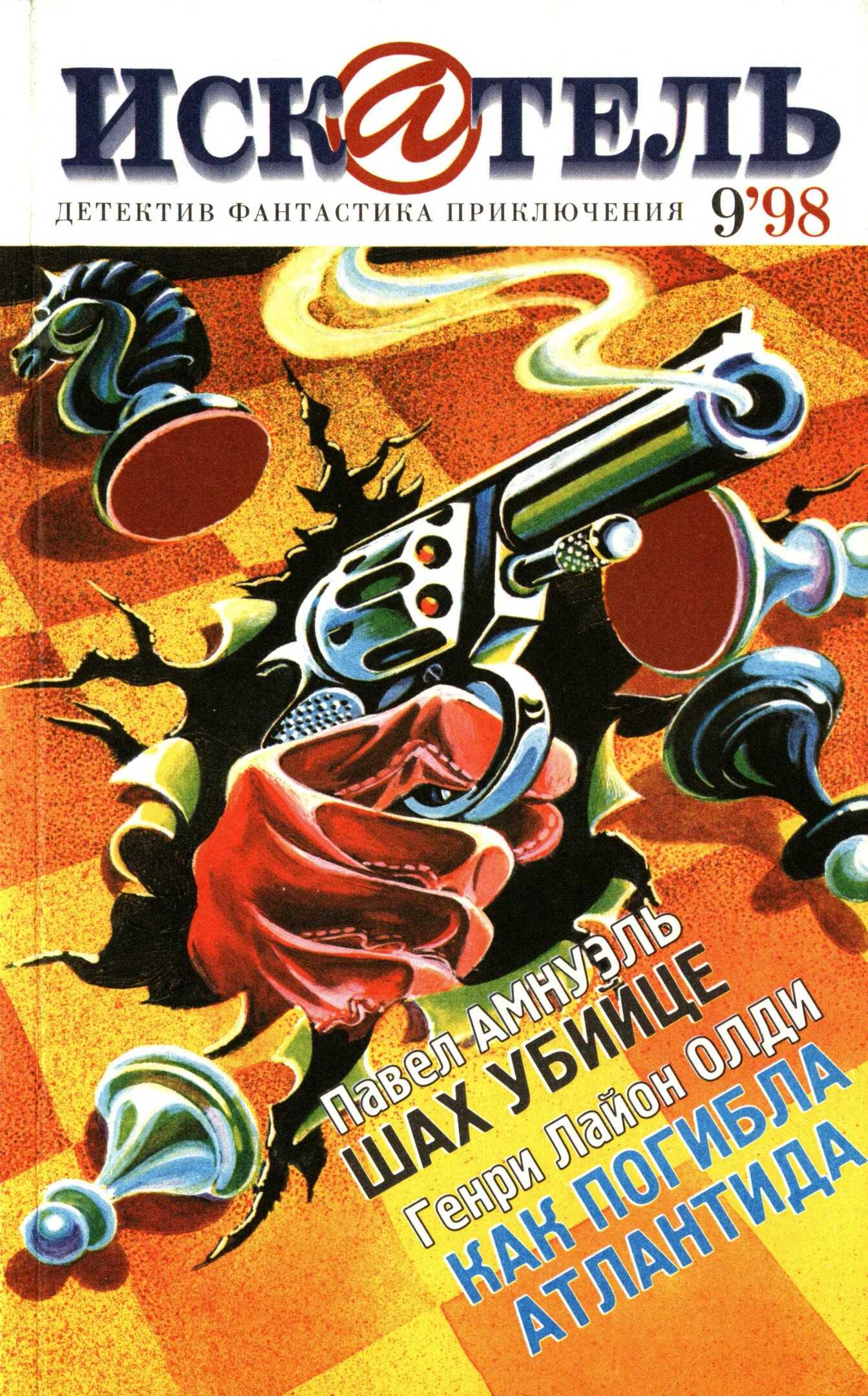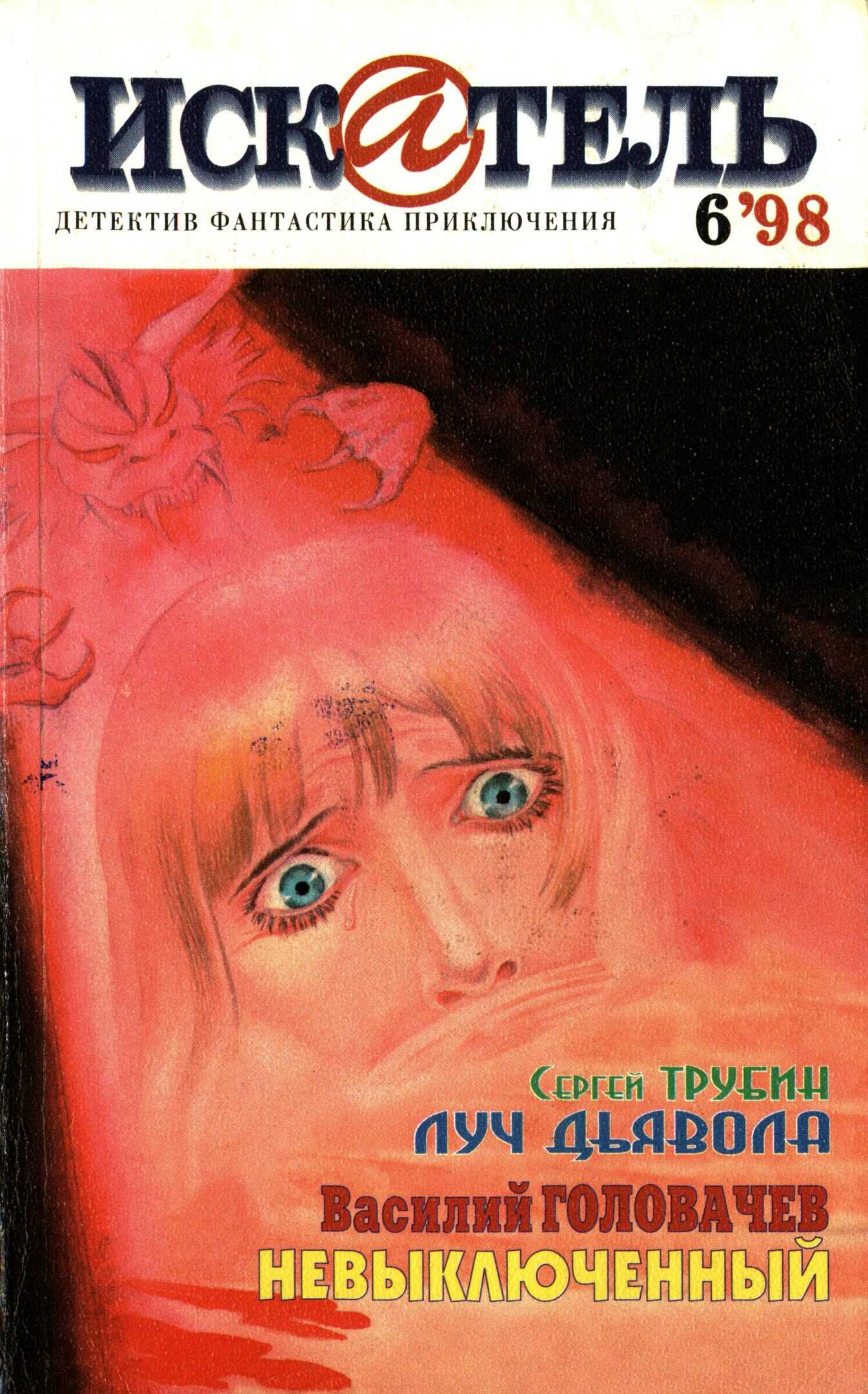Грузевича, рассказал бы о шустром Аркаше, о том, как из немых делаются поп-идолы. Он бы еще о многом рассказал, но плотный чуб Сотемского все раскачивался и раскачивался, и показалось, что Санька в кабинете сидит вообще один.
— «Вор-робышек! Вор-робышек! Не на-адо уходить», — незнакомым голосом запело радио.
Наверное, самое странное на нашей планете — это видеть себя со стороны, например по телевизору, и слышать себя со стороны, например по радио. Происходит отделение человека от человека. Ты и здесь, в комнате, и там, в телевизоре или радиоприемнике. А кто из вас настоящий, сам не знаешь. То ли не верить, что ты — там, то ли тому, что ты — тут.
Санька не поверил, что поет все-таки он. Голос был действительно приятным, грустным, но все-таки не его голосом. Оператор на пульте перестарался, чрезмерно очистив его. А может, сделай Санька погромче радио — и все бы изменилось, но ноги не хотели поднимать его.
От звона, оживившего телефон на столе, он вздрогнул. Такого звука в песне не было, и оттого она еще сильнее показалась чужой.
— Слушаю, — тихо ответил он трубке.
— Здорово. Это я — Андрей…
— A-а, здравствуй.
Чуб Сотемского все мел и мел по столу. Скоро там должна была появиться дырка.
— Тебя еще можно Санькой величать? Или…
— Можно.
— Аркадий тебя не нашел еще?
— Нет.
— Он передал, что не хочет с тобой работать.
Андрей мастерски обходил слова с буквой «з». Но причмокивания все равно выдавали его опухшие губы. Он будто бы целовал каждое слово. Возможно, он первым на Земле научился прощаться со словами. Что ни говори, а сказал — как потерял.
— Не хочет — и не надо.
— Я тоже так думаю. Ты пойми, Санька, какой бы ни был этот урод Солотовский, — нет, мимо этого «з» он пройти не смог, — это все равно одна мафия. Они все друг друга ненавидят, все готовы ножку подставить при первом же случае, но когда дело касается их корпоративности…
— Да понимаю я все. Я теперь для них — как прокаженный. Но я же не собирался «звездой» стать. Я был в служебной командировке. Оперативная разработка это называется…
— Так ты савясал? — с неизбывной грустью спросила трубка.
— Что-что?
— Ну, я имел в виду, уже не будешь петь?
— Поздно уже, — вздохнул Санька. — Мне — двадцать три…
— А Меладзе во сколько запел? — умудрился он выжать «з». — А Новиков?
— Это исключение из правил.
— Санька, ты — идиот! У тебя такой чистый голос! Роберти-но Лоретта в подметки тебе не годится!
— Не преувеличивай!
— Ты знаешь, зачем я тебе звоню?
Кажется, у него начало получаться «з», и он готов был употреблять только те слова, где есть эта буква. Точно так же ребенок, научившийся говорить «р», вставляет рычащую букву куда нужно и не нужно.
— Я создаю новую группу! — оглушил криком Андрей.
— Что?
— Ну, не то чтобы создаю, а как бы возрождаю. Уже без… без Роберта, — еле назвал он его. — Название старое — «Мышьяк». Директор — я. В группе — Виталик, Игорек, я и…
— А где ты соло-гитару найдешь? — не вставил ожидаемое «я» в паузу Санька.
— Это мои проблемы.
— Кстати, о Роберте. Ты знал, что у него такая же куртка, из коричневого крэка?
— Я же тебе как-то говорил, что мы втроем их покупали. Игорек свою действительно продал, а Роберт… Куртка исчезла после гибели Вовки. Продавать он ее не хотел. Или боялся. Оставил у Кошелева. Но еще раз одел. Когда ту женщину сбивали…
— Зачем?
— Они уже знали, что убийцу ищут по коричневой куртке…
— По двум курткам. Коричневой и черной вареной…
— Ерунда это все. Раз в меня вцепились, «сообщник» вам уже был не нужен. Если б я не сбежал…
— Мог бы и не драпать. Я и без того на Роберта и Кошелева вышел.
Трубка озадаченно помолчала. Трубка не верила. А верить нужно было. Уже почти не осталось тех, кто был достоин этого чувства.
— Без брехни? — откуда-то издалека, будто бы из глубин своей души спросил Андрей. — Честно, верил, что не я?
— Да ну тебя!.. Слушай, мне работать надо. Бумаг — куча! Ты чего звонишь-то?
— Как чего?! — опешил Андрей. — Я же тебе русским языком объяснил, я создаю группу! Пойдешь солистом?
— Нет! — раздраженно крикнул Санька в трубку. — Я устал от шоу-менов, клипмейкеров, раскруток! Я не буду петь! Надоело!
— Ну, извини, — подавленно ответил Андрей, и вместо его голоса трубка запульсировала гудками.
Точно в такт санькиному сердцу. Наверное, трубка сочувствовала ему. Но он все равно положил ее на рычажки.
— Лысый звонил? — не поднимая головы, спросил Сотемский. — Пашке из-за него строгач влепили. Хотя он вроде и не от него сбежал…
На затихающую, слабеющую мелодию «Воробышка» наложились аплодисменты. Видимо, теперь такими звуками по радио старались подчеркнуть успех песни. Музыка исчезала, а хлопки ладоней медленно нарастали. Как раньше писали, переходили в бурную, продолжительную овацию.
— Ударники все немножко с придурью, — добавил Сотемский. — Малько — не исключение.
Было похоже, будто он озвучивает то, что пишет именно в этот момент.
Что-то новое, еще прежде не испытанное, подбросило Саньку со стула. Он кинулся к черному кирпичу радиоприемника, выключил его и с удивлением услышал в ушах продолжающиеся аплодисменты.
И ТИХО ЗАКРЫВАЕТ СЦЕНУ ЗАНАВЕС…
В 12.31 в дверь кабинета Тимакова постучали. Сотемский и Седых никогда этого не делали. Вздохнув, Тимаков убрал со стола в портфель термос с супом, хлеб в целлофановом пакете и ложку, подождал, когда постучат повторно, и только после этого крикнул на дверь:
— Заходи, Башлыков!
— Я на минутку, Станислав Петрович, — показалось смущенное Санькино лицо, потом его серый свитер и только потом он весь целиком.
Еще с конца восьмидесятых, когда почти во всех бедах винили людей в форме, причем любой — что армейской, что пограничников, что милицейской, — эмвэдэшники перестали носить ее на службу. Входили в здание гражданскими, выходили гражданскими. И сейчас, когда уже на форму так не косились на улицах, по-прежнему ее игнорировали. Башлыкова, например, он всего раз видел в погонах старшего лейтенанта. Как раз в тот день, когда ему эти погоны вручили.
Да Тимаков и сам сидел в клетчатом костюме при галстучке. Не подполковник милиции, а клерк в аудиторской фирме.
— Привыкаешь к родным стенам? — спросил он и рукой указал на стул слева от себя.
— Вы извините, что в обеденный перерыв…
— Какой перерыв! Ты же сам знаешь, что он у нас условный. Или уже забыл?
— Нуда… Условный…
— Башлыков, я вот все думал об одной вещи, —