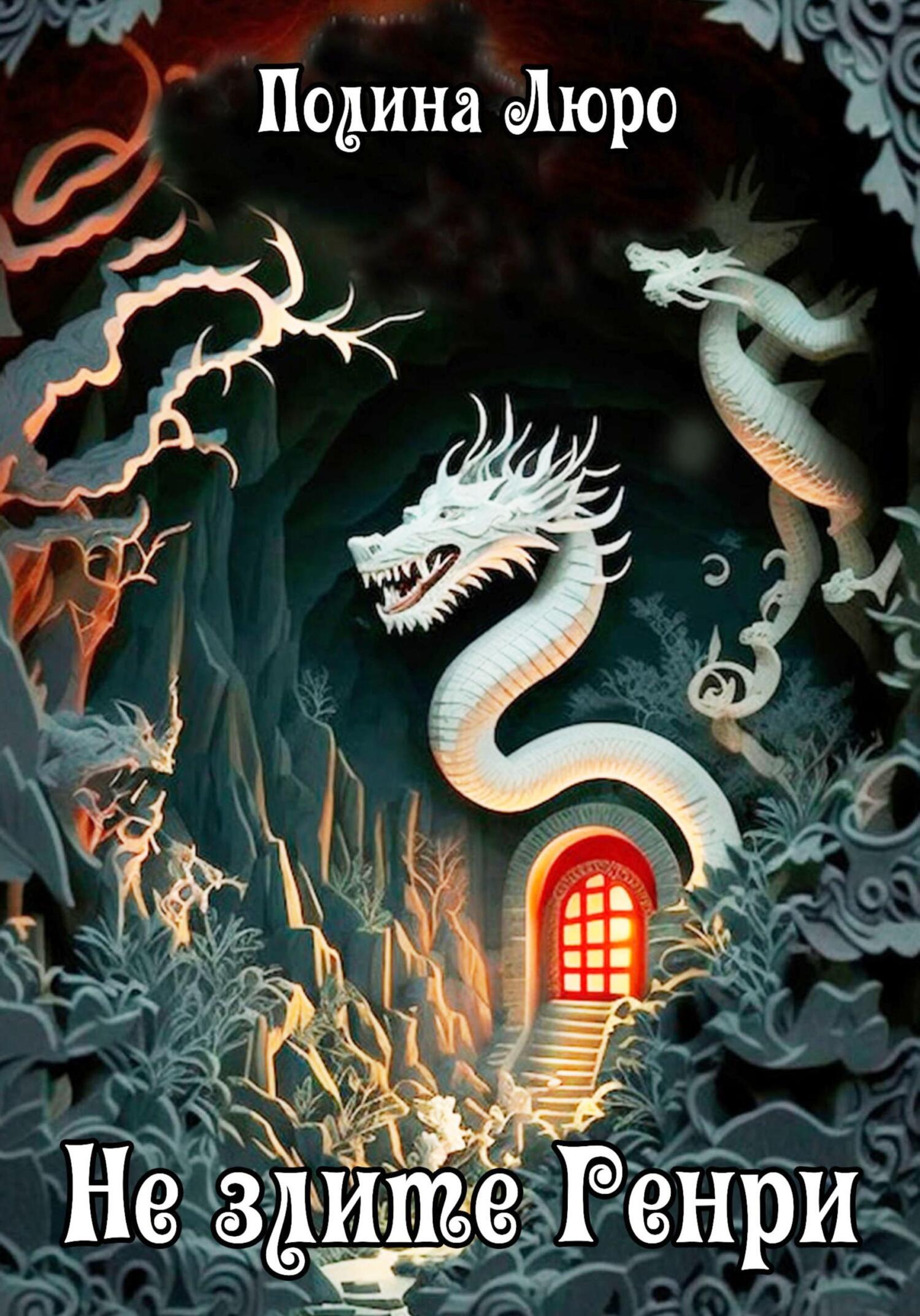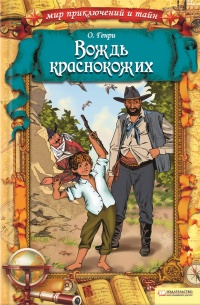на них рук».
Китс также использует этот мотив в своей знаменитой оде.
Но ты, о Птица, смерти непричастна, —
Любой народ с тобою милосерд.
В ночи всё той же песне сладкогласной
Внимал и гордый царь, и жалкий смерд;
В печальном сердце Руфи в тяжкий час,
Когда в чужих полях брела она,
Всё та же песнь лилась проникновенно —
Та песня, что не раз
Влетала в створки тайного окна
Над морем сумрачным в стране забвенной[39].
Здесь воображение заносит поэта слишком далеко, ибо «всё та же песнь», иначе говоря, песенка одного конкретного соловья, может звучать только в одной точке, предположим, в Хампстеде: ведь, несмотря на то что половину своей жизни соловей проводит в Абиссинии или еще где-то за морями, а еще часть – в долгом пути, поет он только дома. Из всех британских поэтов, кто попытался дать описание столь волнующей нас песенке соловья, более других преуспел Мередит, но подлинно велик лишь Китс, который, не прибегая к подобным попыткам, в пылких строфах чистой красоты описал ее воздействие на наши души. То же самое и в прозе: от многих бесплодных попыток описания мы разочарованно возвращаемся к вечной и радостной свежести знакомых строчек Исаака Уолтона – к его облаченному в нехитрые слова восторгу от певца, «своей крохотной музыкальной гортанью рождающего такое нежное и звонкое пение, что человечеству ничего не остается, как нет да и поверить в чудеса».
И куда больше вопроса места соловья на певческом пьедестале нас беспокоит вопрос его места на географической карте Англии и его ежегодного возвращения в одну и ту же точку. Взять хотя бы вот эту уединенную чащобу, чей «коренной» соловей сейчас где-то в Абиссинии, но обязательно прилетит около восьмого апреля – в единственном числе, потому что соловьи в своих маленьких доминионах не терпят соперников, – а еще через семь-десять дней к нему прилетит его самка.
И как естественно для нас, его слушателей, представить себе, что все эти годы нам поет один и тот же соловей! Даже если вы древний дед, вся жизнь которого прошла в деревне неподалеку, чья шустрая детская ручонка когда-то весна за весной таскала из гнезда по пятку оливковых яиц, чтобы сделать «бусы», то есть красиво разложить их в комнате вместе с другими цветными яйцами; если этим же и с той же целью занималась шустрая ручонка вашего сына, а сегодня, с высокой долей вероятности, занимается шустрая ручонка вашего внука,– даже вы наверняка думаете, что все эти годы слушаете одного и того же соловья. И, несомненно, это ощущение тем сильнее, чем реже в данной местности встречается соловей. Здесь, на границе Суррея и Гемпшира, в самом сердце соловьиной страны, где есть урочища, служащие настоящими соловьиными ристалищами (причем как в песенном, так иногда и в буквальном смысле), как-то проще представить, что после смерти соловья освободившуюся рощицу или небольшую чащобу быстро занимает другой соловей. Суррей, Гемпшир и Кент – три наших графства с крупнейшим соловьиным населением, за ними с небольшим отрывом следуют Сассекс и Беркшир. К сожалению, в названной пятерке графств (шестерке, если добавить Бэкингемшир), концентрируется бóльшая половина английских соловьев. Возвращаясь к нам со стороны Франции курсом юг-север, соловьи оседают преимущественно в «отчих домах» на юге и юго-востоке; желающих продолжить путь гораздо меньше, и, стало быть, север и запад заселены гораздо реже. На моей карте, где расселение соловья показано красным, наиболее густо окрашены упомянутые пять-шесть графств, тогда как на север и на запад от них красный цвет теряет насыщенность, переходя в розовый для юго-западных графств, домашних графств[40] левобережья Темзы, Мидленда, Восточной Англии, обрываясь на Шропшире и Южном Йоркшире. На западе граница расселения соловья проходит по границе Англии и Уэлса, южнее отсекая Восточный Девон от Западного. Во всём Девоншире западнее долины Экса и далее в Корнуолле, а также практически во всём Уэлсе, Шотландии и Ирландии соловьев нет.
Необычное расселение соловья интригует, ведь и серые, и садовые славки, и серогрудые крапивники, как и многие другие весьма требовательные перелетные птицы, распространены гораздо дальше как на север, так и на запад. Мы можем только констатировать, что ареал соловья более ограничен, но точно не в силу климатических причин, что соловей чуть ли не эндемичен, – иначе говоря, дело темное. Одни навоображали себе, что соловей разборчив в пище и селится только в местах с подходящей кормовой базой; другие определяют соловью жить там, где изволит расти первоцвет весенний; третьи уверены, что ему нужны места с хорошим эхом. И это только лишь часть выдумок и басен на соловьиную тему.
Такая география не только специфическая, но и в каком-то смысле неудачная: ведь все и повсюду хотят слушать соловья, этого глашатая лета, чей голос для нас значит больше чем пение всех ласточек, кукушек и горлиц, я молчу о многократном превосходстве оного в качестве. А выходит так, что бóльшая часть населения нашего архипелага никогда-то соловья и не слышала. В районах с пониженной «соловьиностью», таких как Сомерсет или Восточный Девон, на целый приход может приходиться всего один соловей: для жителей ближайшей деревни – повод для особой гордости и даже, вероятно, источник чувства превосходства перед всеми соседями.
В один из дней позднего апреля хозяин дома в деревне на берегу Северна, где я остановился, простой труженик, сообщил мне новость – он слышал, что прилетел их соловей (единственный), и мы вместе отправились на его поиски. Идти было около двух миль – пройдя через лес и спустившись с холма, мы оказались в небольших зарослях на берегу быстрого ручья. Вот здесь, сказал он, в этом самом месте он слушал его во все предыдущие годы. Не прошло и пяти минут с момента нашего обращения в слух, как мы были вознаграждены: вожделенное пение, словно из ниоткуда, ударило по нам с тернового переплета не более чем в двенадцати ярдах от нас – ударило до остолбенения внезапно и наповал, словно кто-то огромный энергично и мощно перебирал золотую струну.
Аналогичная ситуация характерна для всех районов с пониженной «соловьиностью». По всей стране есть сотни приходов, где каждый житель легко отыщет дорогу к «своему соловью», как, если бы жаждая, нашел ее к роднику с чистой водой, спрятавшемуся где-то в расселине или между корней, но ведь и сама соловьиная песня – фонтан прекрасных звуков: искрящихся, кристально чистых, бьющих из таинственного неиссякаемого источника,