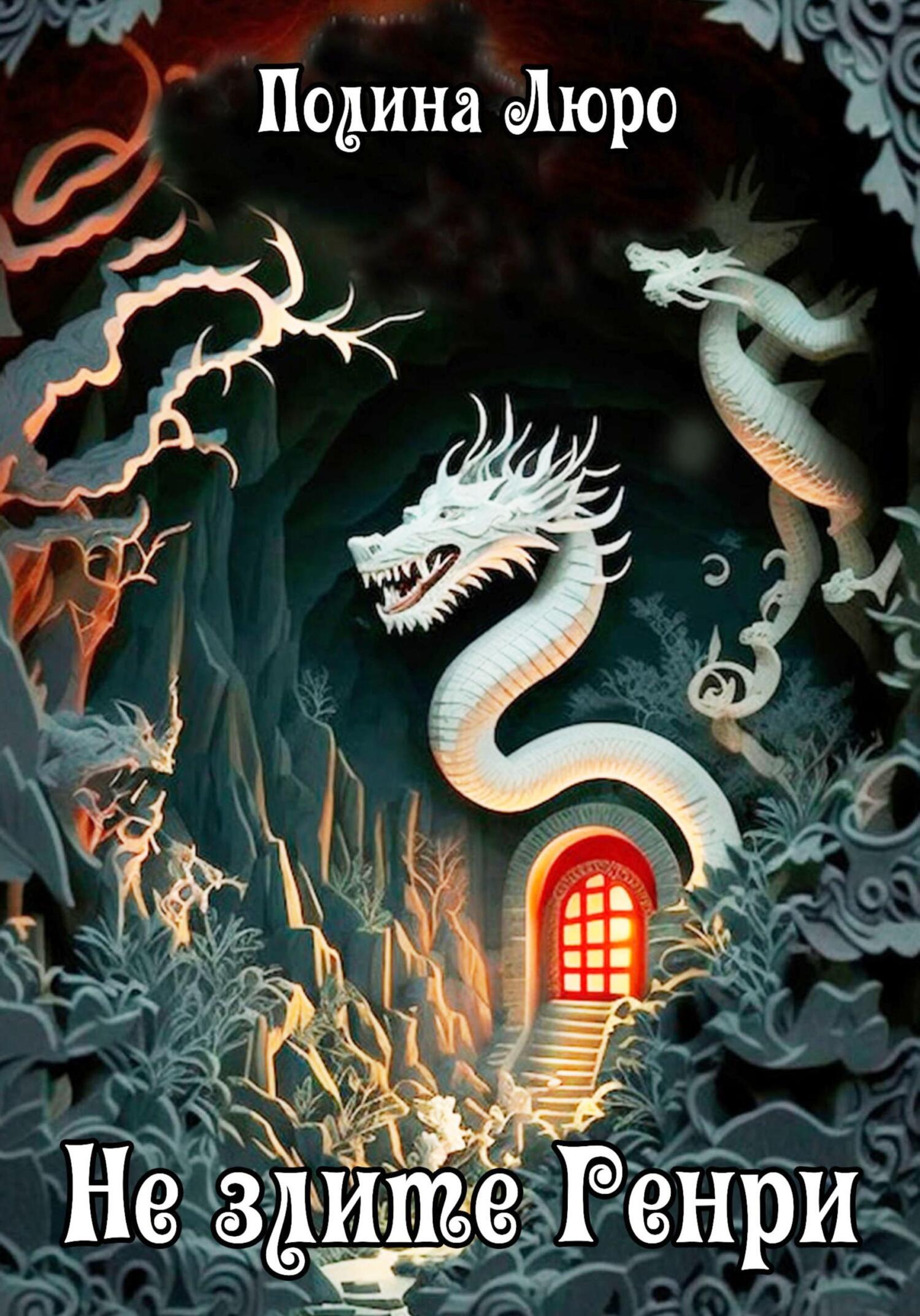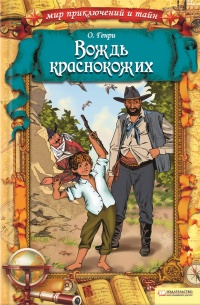из года в год? Верю, что изменится. Как мы уже видели, возвратившись из теплых краев, самец соловья занимает свою небольшую территорию, на которой, подобно родственной ему малиновке, он не потерпит присутствия второго самца. Так что, если из одного выводка либо семьи уцелело двое или больше самцов, один из них становится полноправным хозяином территории, а изгнанный второй (или второй и третий) вынужден селиться где-то в другом месте, но желательно как можно ближе. Соловью легче проделать тысячи осенних миль к местам зимовки, чем поселиться дальше чем в одной миле от своего гнезда – места, где он вылупился и вырос. Эти птицы крайне неохотно покидают родные урочища, но, если прирост будет выше хотя бы на треть, всё больше и больше соловьев будут вынуждены искать дома в другом месте. Пускай и медленно, занимая новые урочища по принципу скорее близости к отчему дому, чем удобства, но, повинуясь неотвратимому давлению, соловьи будут расширять ареал, и настанет день, когда десять тысяч дубов, лещиновых перелесков и чащоб – лучших квартир соловьиной страны, которые сегодня стоят пустыми,– огласятся неумолчным пением. То, что соловья нельзя расселить искусственными мерами, мы знаем из шотландских опытов сэра Джона Синклера[41] и аналогичных попыток в Северной Англии, заключавшихся в подкладывании добытых на юге соловьиных яиц в гнезда малиновок. Птенцы вылуплялись, получали должное внимание и ожидаемо исчезали с приходом осени, но никогда не возвращались. Можно только предположить, что, ведомые «наследственной памятью», которая с самой скорлупы есть в мозгу каждой птицы, о настоящем доме – то есть не о Шотландии и не о Йоркшире, но о том месте, где яйца были отложены, – соловьи, если и выживали, неизменно возвращались из дальнего странствия ровно в ту точку, откуда было добыто яйцо.
То, что человеческий фактор бывает по-настоящему губительным, можно говорить исходя из того, что мы видим на Континенте, даже в тех странах, жители которых, не зная омерзительной привычки есть соловьев и других мелких птиц, массово промышляют их отловом для клеток. Здесь будет показательным пример уже много лет терпящей соловьиную убыль Южной Германии, где эта птица стала большой редкостью, а во многих районах даже совсем истреблена. Мы, стараясь не отстать, тоже истребляем соловьев изо всех сил, точнее, из объединенных усилий таскающих яйца мальчишек и ловцов птиц.
Думая о первых, я часто сожалею, что у нас нет суеверия, защищающего яйца соловьев, подобного тому, которое оберегает кладки их двоюродных зарянок – «желтых соловьев осени», как образно назвал их один поэт Елизаветинской эпохи. Не раз и не два я воочию наблюдал его эффективность, когда даже самые закоренелые разорители гнезд из деревенских ребят предпочитали не трогать гнездо малиновки, опасаясь, что в их жизни непременно случится что-нибудь плохое, например, чего доброго, отсохнет рука. Соловьиные же кладки, как и гнезда дрозда, лесной завирушки и серой славки, разоряются без малейшего колебания, более того, считаются ценным и желанным трофеем благодаря чудесной и необычной окраске яиц, а также их редкости.
Полагаю, что отмена одного лишь этого губительного фактора увеличит ежелетний соловьиный прирост на треть.
Урон, ежегодно наносимый ловцами птиц, сегодня не такой зияющий, каким был еще в шестидесятых годах XIX столетия, когда в сети обыкновенного лондонского ловца по прилету попадало и посто, и подвести соловьев. И так продолжалось столетиями: сведения о массовом отлове соловьев мы обнаруживаем еще в источниках времен Елизаветы. Сам Уиллоби[42], «отец британской орнитологии», говоря о соловье, отводит ввосьмеро больше слов на особенности его содержания в клетке, чем на описание в естественных условиях.
Между тем, жизнь в заточении дается соловью труднее и большей ценой, чем любому другому виду певчих птиц. Широко известно, что соловей, пойманный сразу после начала гнездового периода, умирает от горя. Те же, которых успели поймать до прилета подруги – а самочки, как мы уже знаем, возвращаются на семь-десять дней позже самцов, – могут протянуть до периода линьки, который для большинства окажется фатальным. Пережить первый тюремный год удается в лучшем случае одному соловью из десяти.
Но поспешим поздравить друг друга с тем, что мы живем в стране, где массовый отлов соловьев в последние пятнадцать лет стал невозможен благодаря законодательным мерам, в частности, мудрому акту сэра Герберта Максвелла, действующему на уровне графств и округов и уполномочивающему местные власти давать птицам и их гнездам дополнительную защиту. Нам пришлось выдержать долгую битву за сохранение наших птиц, но о победе говорить еще рано – достаточно взглянуть на то, как закон каждый день попирает целая преступная клика, в которую сплотились торговцы птицами, стоящие за ними «птицелюбы» и их мелкие сошки птицеловы, рискующие, однако, больше всех. К тому же во многих магистратах на нарушителей, если те соблюдают «правила игры», смотрят сквозь пальцы. Охотника в законодательных мантиях в гораздо большей степени волнует сохранность куропаток или тех же кроликов, чем какой-то неприметной бурой пташки или стаек каких-то щеглов и коноплянок. Мы знаем, что действенность закона пропорциональна силе общественного мнения на его стороне – так вот сегодня это мнение еще не всеобщее и недостаточно сильное, точнее, не такое сильное, как хотелось бы птицелюбам, но оно существует, более того, за последние полстолетия, поддерживаемое поправками в законодательстве, им же и вдохновленными, оно сделало большой шаг вперед и уже сегодня работает. Доказательством этого служит численный прирост, который в последние годы демонстрируют многие традиционные лидеры отлова. Ярчайшим примером может послужить щегол. Многолетнее сокращение численности этого одного из популярнейших у держателей клеток пленника привело к общенациональному обнищанию популяции щегла, так что двадцать лет назад во многих графствах эта птица если не исчезла совсем, то была близка к исчезновению. Но тогда же наступил перелом, в результате которого щегол перестал считаться пернатой редкостью, и если так и такими же темпами пойдет дальше, то через декаду-другую щегол снова станет обычной птицей, какой он был пятьдесят лет назад. Это стало возможным благодаря Своду законов, принятому графствами и советами округов по всей стране и обеспечившему птицам круглогодичную защиту.
Однако соловей не может похвастаться ни подобным, ни каким-либо вообще ростом численности – «бессмертная птица», которая несет в себе «сердца негасимый огнь», далеко не столь жизнеспособна и, по всей видимости, живет гораздо меньше, чем блестящие щегольки. К тому же, гнездо соловья, который и без того не отличается плодовитостью, вьется на самой земле, из года в год в одном и том же месте (так что во всей округе только ленивый не знает, где его искать), представляя собой