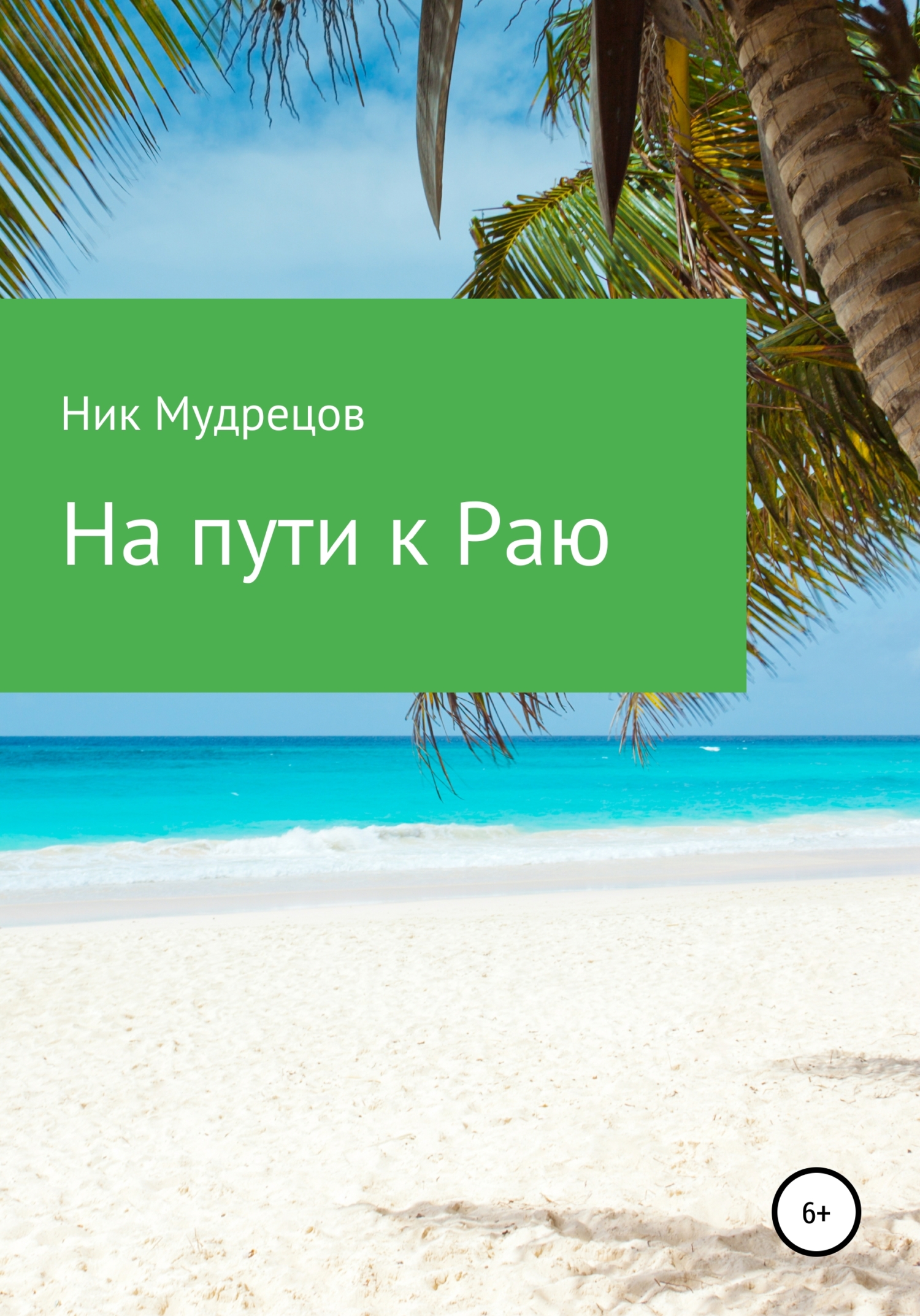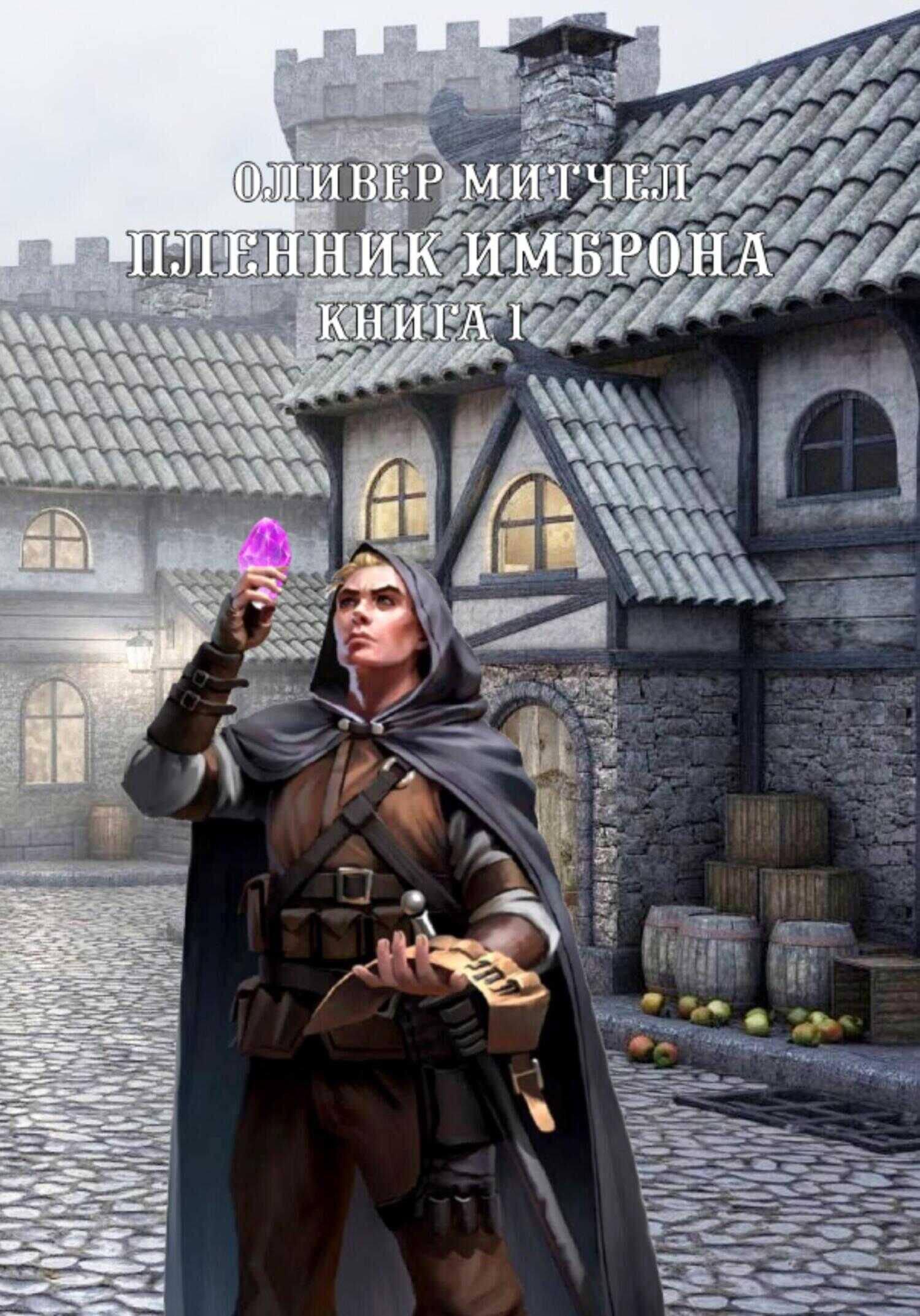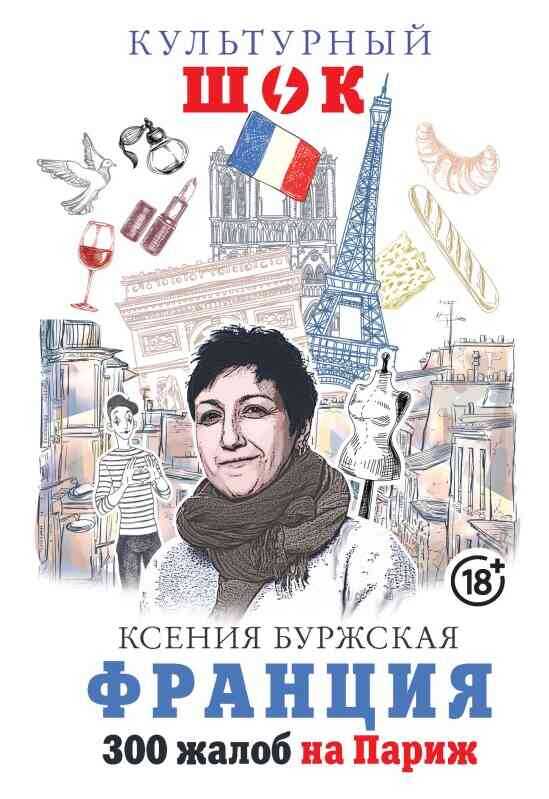выявлены, их встреча предотвращена, суть планируемых контактов в общих чертах обнажилась… И все же Листка не покидало чувство некоей неудовлетворенности. Да, сапфировая брошь позволила выявить эмиссаров обеих сторон. Но, во-первых, вызывало сомнение то стечение обстоятельств, что в ресторане странным образом оказались все те лица и вещи, с которыми — не менее странным образом — пришлось столкнуться ему в Могилеве. Французская графиня, Лимке, брошь императрицы, да и сам он — случайность ли это? А если не случайность, то что за мистический промысел свел их в одном месте и в одно и то же время?
Во-вторых, мучило обстоятельство, что связало их всех в роковой клубок не что-нибудь, а «эдельвейс» императрицы! А значит, он, ротмистр Листок, — любой ценой пытавшийся защитить честь государя, — ошибался! Романовы действительно повинны в секретных связях с врагом — пусть и с гессенской родней, но врагом! И даже если связи эти и не предусматривали каких-либо сепаратных намерений — скорее некие финансовые операции, как можно было понять из фраз Шлика, — это еще не говорило, что некие тайные махинации не были платой за какую-нибудь готовящуюся гнусность! И конечно, угнетала цена, заплаченная за попытки «вождей» что-то сообразить за спиной всего мира. Исчезли графиня, ее компаньонка, убит русский чиновник Лимке, погиб Росляков…
Росляков… Невосполнимой утратой легла на душу ротмистра потеря ставшего ему почти братом товарища. И писал он о последних встречах с ним, как если бы выводил собственный приговор. Ибо вовлек его своим упрямством в беду, не помог ничем, когда она нагрянула, — не сбежал с обрыва, не вытащил, возможно еще живого, из смятого в лепешку мотора… А может, это был вовсе не он? Может, еще вернется живым и невредимым и надо лишь подождать — хотя бы день, хотя бы два…
Оттого и тянулось время, что рука не поднималась подвести черту.
Однако на четвертый день Иваницкий, точно догадавшись о душевных терзаниях ротмистра, резанул по сердцу:
— Пиши, Алексей Николаевич, — ни в чем твоей вины нет! Коль жив Росляков — то сыщется! В нашем деле это не редкость…
Листок тоскливо глянул на штабс-капитана:
— Ты, что же, знал о нем?
Иваницкий кивнул:
— Для тебя и готовили, как сослуживца…
Отчет получился увесистый — по объему как рукописный том. Запечатав его в вализу, Иваницкий предупредил:
— Не отлучайся — могут вызвать…
Листок подивился:
— Так и поедешь по Парижу с портфелем?
— Мотор внизу, у подъезда… Так что — до вечера!
И он ушел. Только возвратился не вечером, а через два дня, утром, — с усталым лицом и увесистой бутылкой в руках.
— По какому поводу? — поморщился Листок, принимая шампанское.
— Тебе передали за отменно выполненное задание! — Иваницкий ухмыльнулся. — Пока все, что могут…
— Кто передал?
— Сам и передал…
— Истомин?
— А то кто же!
— Когда примет?
Иваницкий устало посмотрел на него:
— Когда надо! Этого не миновать. И хватит задавать глупые вопросы — лучше откупоривай! Надо же наконец отпраздновать твой успех!
И ротмистр Листок стал ждать — долго, несколько месяцев, изнывая от безделья, мучаясь дурными предчувствиями и теряясь в догадках.
А между тем мир на глазах менялся. Великая война продолжалась уже три года, боевые действия на фронтах не прекращались. Однако все отчаянные попытки сторон добиться перелома в войне только множили и без того гигантское число людских потерь и лишь увеличивали бедствия по обе стороны фронта. И тем не менее в январе союзнические войска готовились к новому масштабному наступлению. Разразившееся в апреле сражение союзников при Аррасе принесло освобождение лишь клочку французской территории, стоившее 160 тысяч убитыми, ранеными и плененными. Россия же в январе и вовсе была беременна революцией. В одном из многочисленных донесений петроградского охранного отделения того времени сообщалось:
«…Настроения в столице носят исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, одинаково как о намерениях власти (в смысле принятия различного рода реакционных мер), так равно и противоположных враждебных этой власти групп и слоев населения (в смысле возможных и вероятных революционных начинаний и эксессов). Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьезно и с тревогой ожидают различных революционных вспышек, равно и несомненного в ближайшем будущем "дворцового переворота», провозвестником коего, по общему убеждению, явился смертоубийственный акт в отношении «пресловутого старца».
Одним из катализаторов «исключительных событий» стала проваленная Митавская операция Северного фронта, предпринятая в соответствии с планом Антанты для удержания инициативы на стороне союзников. Начав 5 января наступление с целью ликвидации немецкого плацдарма, нацеленного на Ригу, русские войска за семь суток боев сумели продвинуться на некоторых участках фронта лишь на 2–5 километров. В конечном счете, потеряв убитыми и ранеными 23 тысячи офицеров и нижних чинов, армия вынуждена была в конце концов перейти к обороне. А 17 марта Иваницкий ворвался в комнату Листка, размахивая французскими газетами:
— Николай отрекся! Ты только послушай, что пишут союзнички в «L’Intransigeant»:
«Манифест царя демонстрирует, с какой нравственной высотой, каким желанием видеть Россию побеждающей врагов Николай Второй отступил, выполняя волю своего народа. Он мог бы спровоцировать гражданскую войну, но предпочел пожертвовать короной ради победы!»
Он отбросил газету и потряс другой.
— А местные сволочи-социалисты просто-таки ликуют! Одно заглавие в «L’Humanite» чего стоит — «Революция побеждает в России»! А пафос-то какой!
«Как и революция французская, она стала делом народа, парламента партий… Решительно заняв место среди великих парламентских собраний, свергая старый режим и освобождая политических заключенных, Дума реализовала единство русского народа для его защиты. Она передала судьбу страны в руки народа!»
Отшвырнув и эту газету, он плюхнулся на диван. Из его груди, как из топки паровоза, вырвалось:
— Сволочи! Доигрались-таки, мерзавцы!
Листок, оглушенный известием Иваницкого, с изумлением смотрел на штабс-капитана. Еще вчера этот улыбчивый офицер с легкостью и налетом кабацкого наслаждения дурно отзывался о «шашнях» государыни со «старцем», а теперь…
И вдруг его охватило чувство глубокой безысходности.
— Что же… теперь? — прошептал он.
— Ничего хорошего! — нервно выкрикнул Иваницкий. — Черни бросили кость, и с костью она сожрет руку дающего! Все пойдет прахом, язви меня в душу!
— А как же союзники, Русская миссия, разведка?
Иваницкий быстро взглянул на него:
— Поживем — увидим!
События не замедлили себя ждать. Через два дня Иваницкий явился чернее тучи. То, что он сообщил, ошеломило:
— Поступили телеграммы из