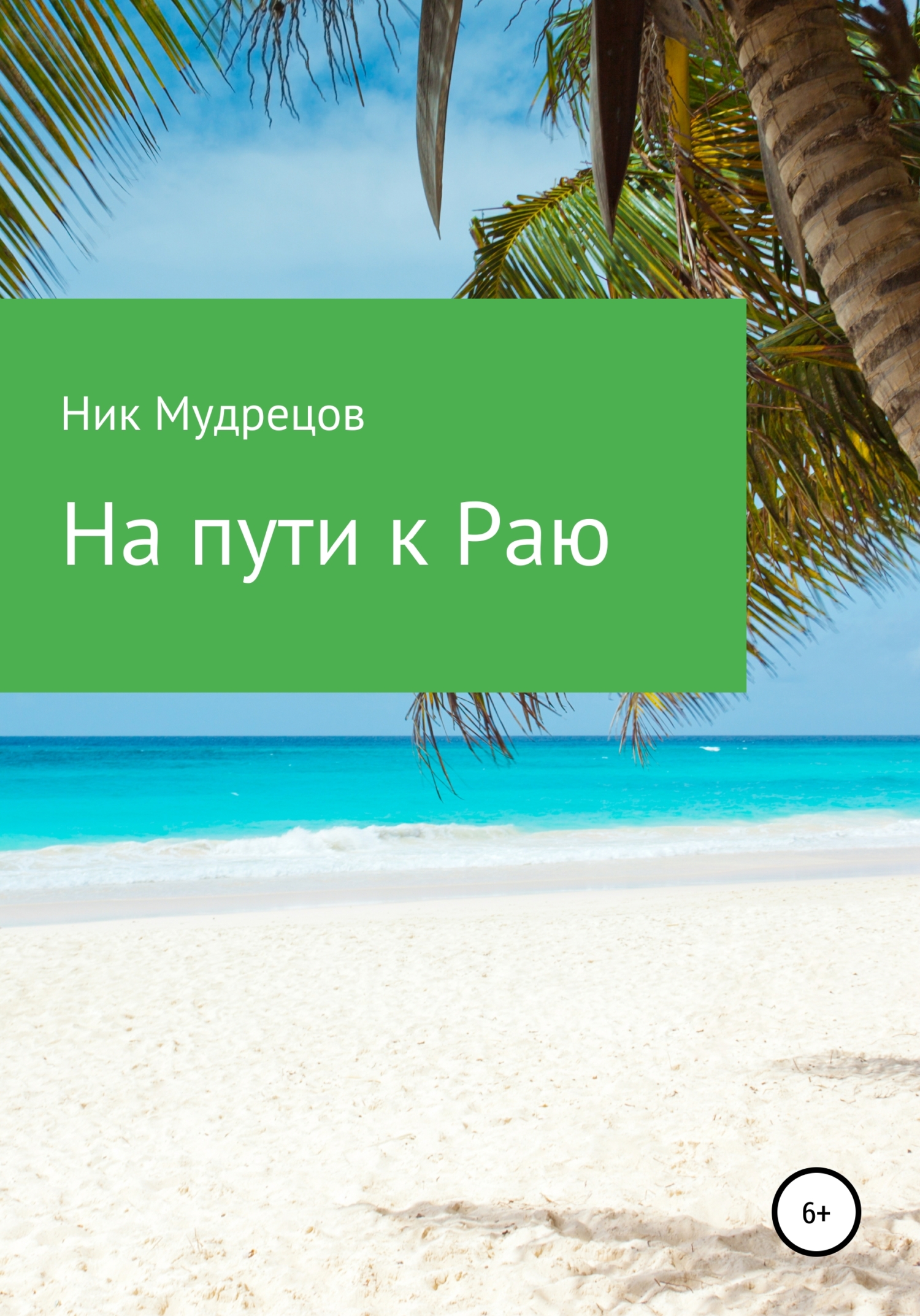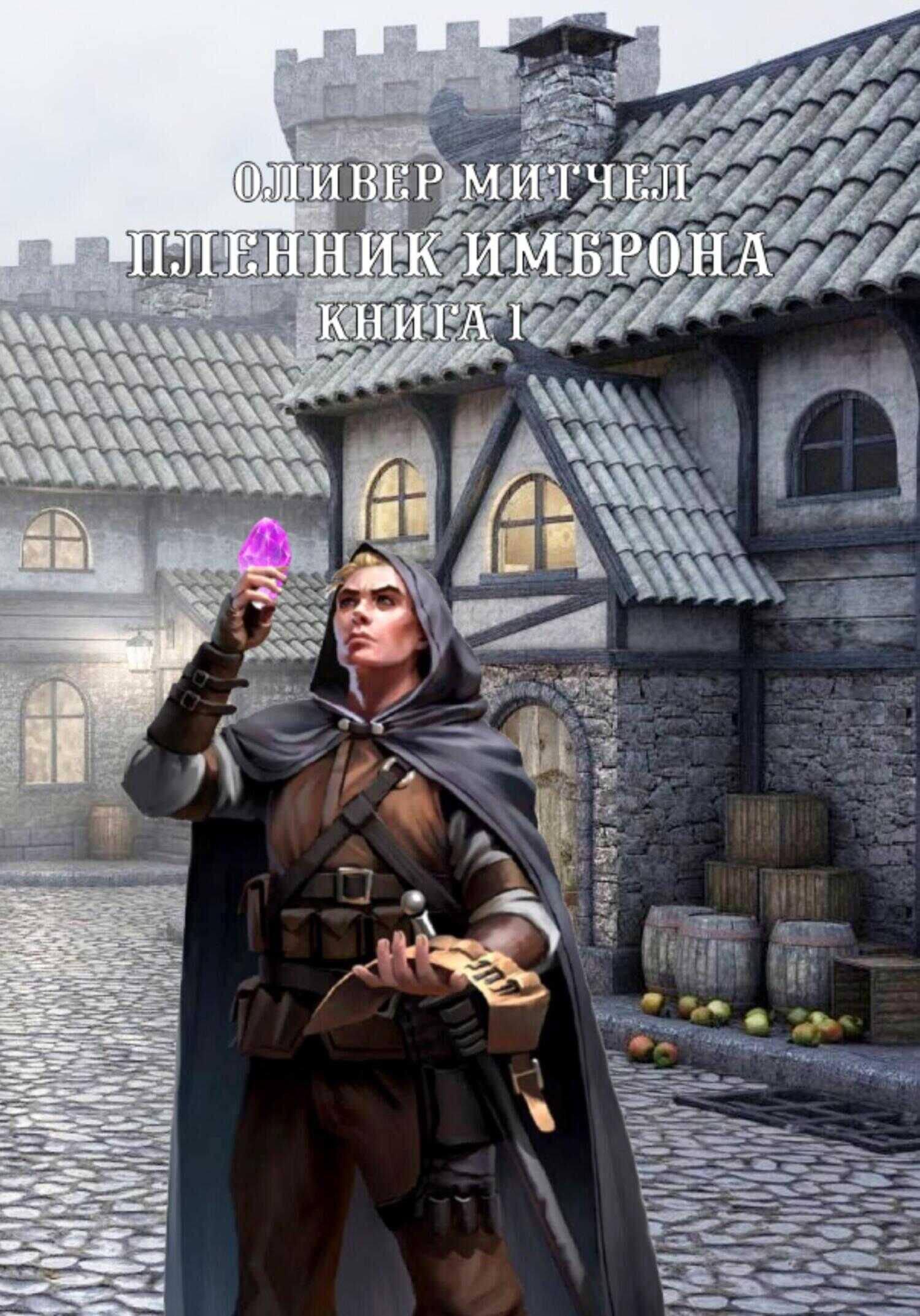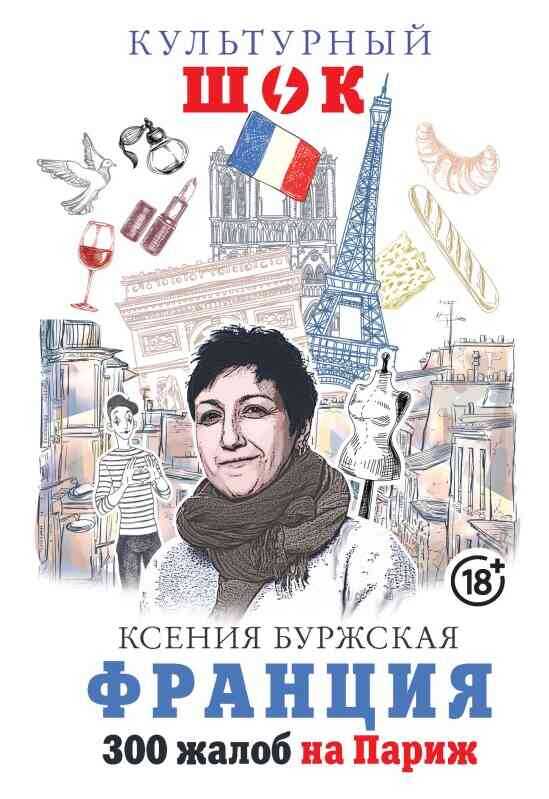Генштаба и Ставки — по велению императора все должны продолжать борьбу на стороне союзников против Германии и подчиниться приказам некоего Временного правительства! В общем, требуют присягать новой власти!
Он нервно закурил.
— И что ты? — спросил Листок.
Иваницкий прошел к окну и, словно не желая встречаться глазами с ротмистром, обреченно выдавил:
— Мне придется… Следовать принципам и потерять службу? Нет уж, увольте! Для такого геройства у меня нет ни средств, ни желания возвращаться в страну победивших идиотов!
Он помолчал.
— Ну а ты?
— Я? Ты хочешь знать, буду ли присягать? — переспросил Листок. — То есть я, ротмистр русской Императорской армии, который уже два месяца сидит в четырех стенах, не понимая, где и кому служит? Прости, но фронт меня потерял, Русская миссия не приняла, а коль я никому не нужен… — Он запнулся, не находя слов. — В общем, идите вы все, Иван Сергеевич, к дьяволу! Переприсягать никому не намерен — вернусь к Лохвицкому, в бригаду! В конце концов, я откомандирован на французский фронт!
— Ну и дурак! — негромко, под нос, словно самому себе, произнес Иваницкий. Постоял, дымя папиросой, и вдруг повернулся. — Заставят присягать и Лохвицкого! И еще неизвестно, чем эта «переприсяга» — как ты изволил выразиться — обернется для всей армии, а не только для твоего Лохвицкого и Русского корпуса! Да будет тебе известно — сукин ты сын! — первый вердикт этой новой власти уже разослан по войскам к немедленному исполнению — некий «Приказ номер один», черт знает, какого Петроградского совета! Теперь солдат обязан подчиняться не офицеру, а — язви их в душу! — каким-то «выборным комитетам» из нижних чинов! Так что, брат Алексей, не сегодня завтра вся твоя бригада Лохвицкого развалится, как карточный домик, — все солдатское отребье потребует возвращения домой — к своим бабам и огородам! И поверь — наши французские «соловьи-либералы» еще нахлебаются от русского бунта! И дай бог, чтобы все еще обошлось без крови! А уж через них, черт возьми, придет черед и за нами…
Он, словно захлебнувшись, смолк.
Не отрывая взгляда от бледного лица штабс-капитана, Листок молчал. Он был подавлен. И чем дольше эта немая сцена длилась, тем больше в его душе нарастал ком отчаянного протеста. И вдруг он прорвался:
— Слышишь, я требую встречи с Истоминым! Я устал от этого свинства! — прокричал он в лицо опешившего офицера.
Однако вторая, не предполагаемая тогда, в декабре 16-го года, встреча с руководителем русского отделения Межсоюзнического бюро и главой всей заграничной службы русской разведки графом Игнатьевым — или Истоминым, как он просил называть себя при первой встрече, — произошла лишь спустя две недели. Причем неожиданно и в весьма странной обстановке.
Случилось это в первых числах апреля. В тот день в Париже стояла необыкновенно солнечная и теплая погода. Он уже подходил к кафе «Орли» — что располагалось всего в квартале от квартиры и в котором ему нравилось изредка проводить вечера, — когда внезапно рядом остановилось серое авто. Не придав в первую минуту тому значения, он продолжил идти, но позади, вслед за звуком открывшейся двери, его окликнули. Это был Иваницкий.
Листок подошел. Вместо объяснения штабс-капитан — на этот раз в штатском — лишь кивнул на открытую дверь:
— Садись, брат, прокатишься!
— Куда?
— Узнаешь — садись! С тобой хотят поговорить…
Окна купе были занавешены. Склонившись, Листок просунул голову в салон и в сидящем у правой двери человеке — облаченном в легкое весеннее пальто — узнал того, встречу с которым столь долго ожидал, — Истомин!
Полковник показал глазами на место рядом:
— Прошу вас, Алексей Николаевич — присаживайтесь!
Листок, машинально кивнув, уже подсел было к начальнику, но в следующую минуту попытался освободить место для Иваницкого, перебравшись на приставное сиденье напротив. Штабс-капитан, однако, лишь улыбнулся — оставшись снаружи, толчком захлопнул дверь, и автомобиль тронулся.
Все полчаса, в течение которых мотор замысловато петлял по улицам, они молчали. Листку вроде не по чину было начинать разговор первым; Истомин же, казалось, испытывал терпение подчиненного — смотрел в окно, будто того и не было рядом. И даже когда они вырулили на бульвар Сен-Жермен и вскоре оставили авто у колокольни старинного аббатства — то и тогда полковник заговорил не сразу. Сначала жестом пригласил пройтись по улице в сторону набережной Сены и, лишь неспешно пройдя пару кварталов, негромко, не глядя на него, произнес:
— Хочу выразить, Алексей Николаевич, личную благодарность за проделанную работу… Сожалею, что потеряли товарища…
— Благодарю, ваше высокоблагородие… — осторожно ответил Листок, судя по мрачному тону шефа, отчего-то ожидая тяжелого разговора.
— Обращайтесь по имени и отчеству, — отрешенно сказал Истомин.
— Слушаюсь, Павел Алексеевич, — кивнул Листок, смутившись от тотчас брошенного на него короткого взгляда.
— Видите ли, Алексей Николаевич, — медленно сказал Истомин, — моим правилом всегда было заботиться о тех, кого я вынужден посылать на риск. Вам же грозила опасность не только там, в Швейцарии, но грозит и здесь, в Париже. И что всего прискорбнее — на родине, в России…
Продолжая идти, Истомин многозначительно посмотрел на Листка; глаза их встретились.
— Да, Алексей Николаевич, именно так обстоит дело… — Он отвернул взгляд. — Не скрою, посылая вас в Цюрих, меня тревожили две странности…
Он помолчал.
— У меня было ощущение, что некоторым особам в Ставке было известно о готовящейся секретной встрече русского и гессенского посланников. Я, как вам известно, выполнял личную просьбу государя — выявить источники, компрометирующие венценосную семью грязными намеками на сепаратные переговоры. С меня же — исподволь, но с завидной регулярностью — требовали установления факта их реальной подготовки. Словно знали, что они должны состояться… И к моему изумлению, таковые факты нашлись. Они, как вы помните, выплыли из разговора представителя германского МИДа с редактором одной из швейцарских газет. Таковая встреча якобы должна была произойти пятого января…
Некоторое время они шли молча.
— Второе, что меня озадачивало, — Ставка требовала в Цюрих послать не кого-нибудь из моих агентов, а именно вас, человека мне совершенно неизвестного…
— Меня? — переспросил Листок.
— Вас, вас, Алексей Николаевич! И первое, что мне приходило в голову, — что вы каким-то образом лично связаны с этим делом.
— Но я… — начал было возражать Листок, но Истомин договорить не дал.
— Не торопитесь, Алексей Николаевич, ниже я поясню… Но прежде