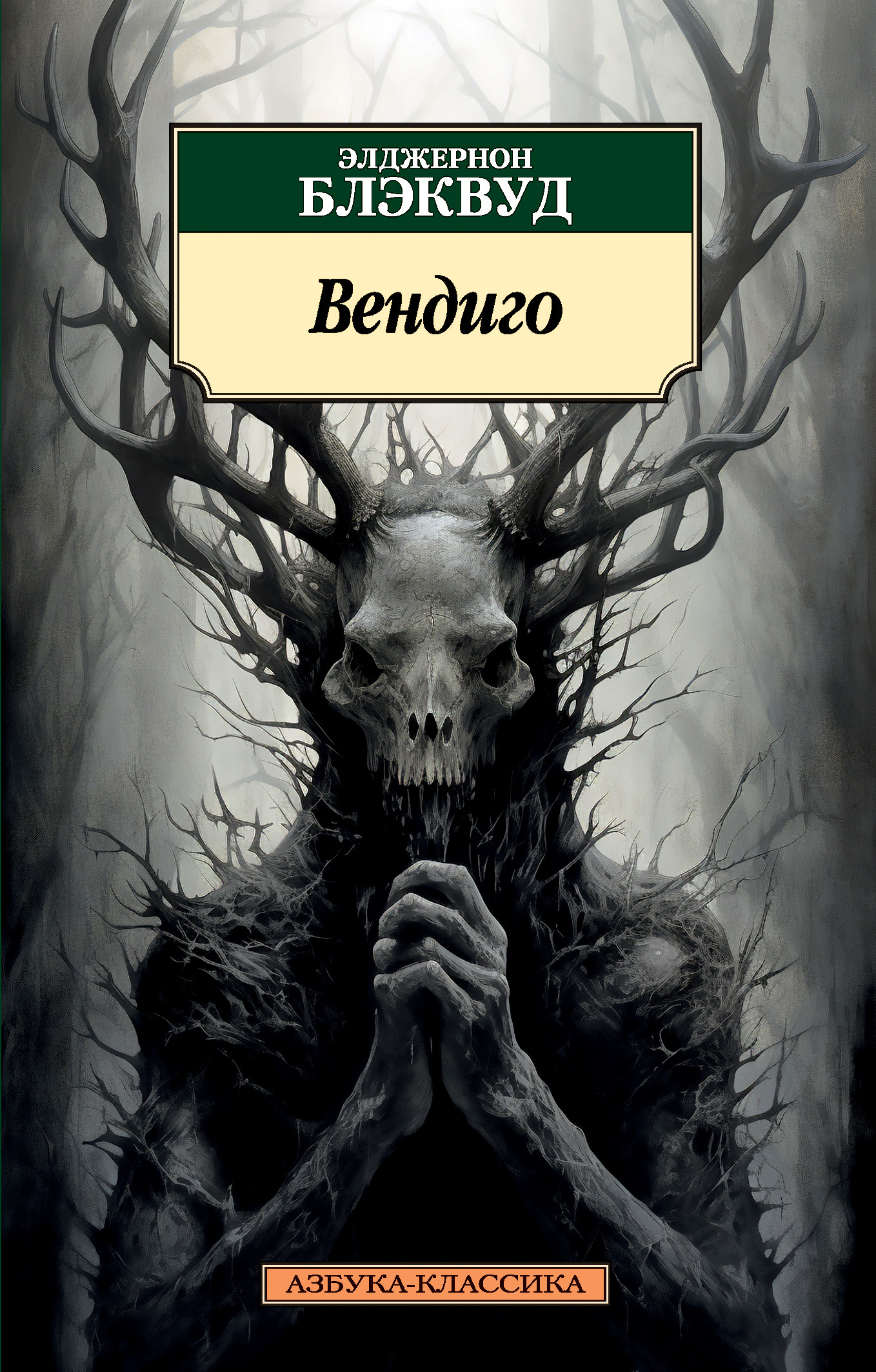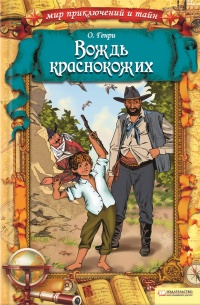она разыгрывала свою бесшабашную безбашенную сценку, вкладывая в нее себя всю. То, собрав под собой лапки, она по-горностайи выгибала дугой спину, то, разжав пружину, взмывала во всей своей стройной красе, а то принималась кружить за собственным хвостом, и по холке, от кончика до самых ушей, бежали рыжие волны, придавая ее движениям что-то змеиное. Наконец она недвижно распласталась на густой подстилке из сосновой хвои, и то, что мгновенье назад было живой белкой, стало растянутой беличьей шкуркой с четырьмя лапками по краям. Вдоволь усладив свое брюшко покалыванием сосновых иголок, она вскочила и продолжила было свои акробатические забавы, как вдруг ее взгляд упал на большой желто-белый мухомор в нескольких ярдах. Миг, и она уже рядом. Яростно обезглавив гриб маленькими лапками, словно снедаемая голодом, она набросилась на шляпку и принялась жадно отрывать огромные куски, работая челюстями, словно крохотная соломорезка.
Стоя на задних лапках, с остервенением вгрызаясь в свой гриб, она напоминала мне диковинного рыжего человечка, врезающегося в круглый бутерброд вдвое шире его самого. Наконец, проглотив еще пару кусков, она, с видом, будто съела ужасную гадость, также внезапно бросила шляпку на землю, выпрыгнула из ямы и скрылась в лесу.
Зная, что вне четырех стен случаются такие замечательные вещи, разве я мог думать о работе иначе как со скукой и отвращением: копаться в ворохе записных книжек, некоторым из которых перевалило за год, чтобы из сотни записей выудить две-три стоящие, – какая тяжелая нудятина, какая трата времени! И ради чего? Даже встреча с горихвосткой-чернушкой (с приветом из Голландии) и акробатическая возня великолепной белки казались мне во стократ более содержательными, чем впечатления годичной давности. Вернуться к этому старью означало уйти от осязаемого мира за окном, которым я дышу и живу, к листанию старых выцветших снимков и копанию в пыльных воспоминаниях. Зачем мне это? А правда, зачем?! Ах, как часто и с какой легкостью мы задаем себе этот вопрос, чтобы получить на него единственный возможный и хорошо известный ответ о вечном желании, очевидно, возникшем еще в сердцах пещерных людей, – желании приоткрыть, указать, описать путь в обнаруженный нами волшебный край; попытаться передать и поселить в сердцах других то неуловимое чувство восторга и чуда, которое способна подарить природа.
Но нам (говоря «нам», я имею в виду своего брата-натуралиста, народ с причудами) известны случаи, что и птицы, подобно людям, могут быть разрываемы надвое внутренним конфликтом – разнонаправленными импульсами, порождающими одну из самых ярких драм в череде ежегодных маленьких трагедий Природы. Я говорю о случаях, когда пара ласточек, воспитывающая поздних птенцов, подхватывается и увлекается на юг могучим миграционным инстинктом раньше, чем молодые птицы станут на крыло.
Я обнаружил их в первый же мой день в Уэлсе, семнадцатого октября: пару ласточек, безостановочно носивших пищу в гнездо под карнизом кондитерского магазина в двух шагах от почты. «Коль уж выпало стать свидетелем драмы, – сказал я себе, – не спускай глаз с этого гнезда». Что до прочих гнезд, то они давно были пусты: ни деревенских, ни каких-то других ласточек в эту глубокую осень в Уэлсе уже не было; еще за две недели до этого мне довелось наблюдать последние (как я полагал) аккорды их отлета. Утро за утром вдоль берега следовали целые воздушные эскадры ласточек, направляясь к острову Уайт, одному из крупнейших узлов на путях перелетных птиц – летели и летели, пока небо не опустело.
Ежедневно, по нескольку раз на дню (всегда рано утром, а дальше – как получалось), я приходил к моим ласточкам. Птенцы – их можно было хорошо разглядеть, когда они чуть ли не до половины высовывались из гнезда, чтобы получить свою муху, – уже вполне сформировались и были очень шумными.
«День, два, и они улетят», – решил я. Со слов местных я знал, что в этом гнезде птенцы воспитывались все лето, выводок за выводком, и, если датировать первую кладку началом мая и предположить, что ласточки занимались детопроизводством почти без пауз, становилось ясно, что эти птенцы были по очереди уже третьими, а то и четвертыми. Невероятно много, особенно если учесть, что худшего года ласточки выбрать не могли: лето, не задавшееся во всей Англии, на норфолкском побережье выдалось холодным и ветреным, не говоря о проливных августовских дождях.
Затем молодые ласточки не показывались из гнезда несколько дней подряд – верный знак того, решил я, что родители их вот-вот покинут. Тогда сердобольная хозяйка предложила мне взять птенцов к себе и кормить всю зиму – авось протянут до весны, до тепла. Надо сказать, что к тому времени не только семейство кондитера, но и без малого весь город принимал участие в судьбе несчастных птенцов, помогая мне дежурить у гнезда. Покинут, как пить дать покинут, быть может, уже завтра: погода стоит холодная и ненастная, корма с каждым днем становится всё меньше, не говоря о том, что уже месяц или полтора две маленькие измотанные ласточки должны быть охвачены неотвязным побуждением лететь на юг – «необоримым дуновением, могучим гласом, неизреченным но слышимым, повелевающим птицам небесным».
Но то, что казалось неизбежным, снова не произошло – родители не покинули своих птенцов, и дважды, двадцать пятого и тридцатого октября, я стал свидетелем отчаянно-гениальных попыток выманить их в небо. По дюжине раз в минуту подлетая к гнезду, взрослые ласточки, вместо того чтобы доставить муху прямо в открытые клювики, на мгновенье зависали у входа, как бы дразня птенцов кормом, а затем, отпрянув, делали круг и возвращались снова. Но и эти трюки по выуживанию оказались тщетными: птенцы – то ли от недостатка сил, то ли от вялости духа – так и не вылетели из гнезда в спасительное небо.
В последний день октября погода испортилась окончательно – было холодно и ветрено, с самого утра зарядил сильный дождь. Из гнезда теперь доносился лишь слабый писк, и плоские черные головки с белыми воротничками, еще недавно жадно просившие есть, уже не показывались в его отверстии. Тем не менее, ласточки-родители всё так же верно добывали пропитание своим чадам, только в этот последний день они не отлучались далеко. Охотясь за редкими мухами, они мелькали туда-сюда по улице в непосредственной близости от гнезда, то и дело мелко вздрагивая (жест, которым ласточки отряхиваются от дождя), и было видно, что они ужасно встревожены состоянием птенцов, словно осознавали, что происходит с их детьми. Изменилось и кое-что еще – теперь каждые четверть часа одна из ласточек залетала в гнездо и оставалась там три-четыре минуты. Я практически