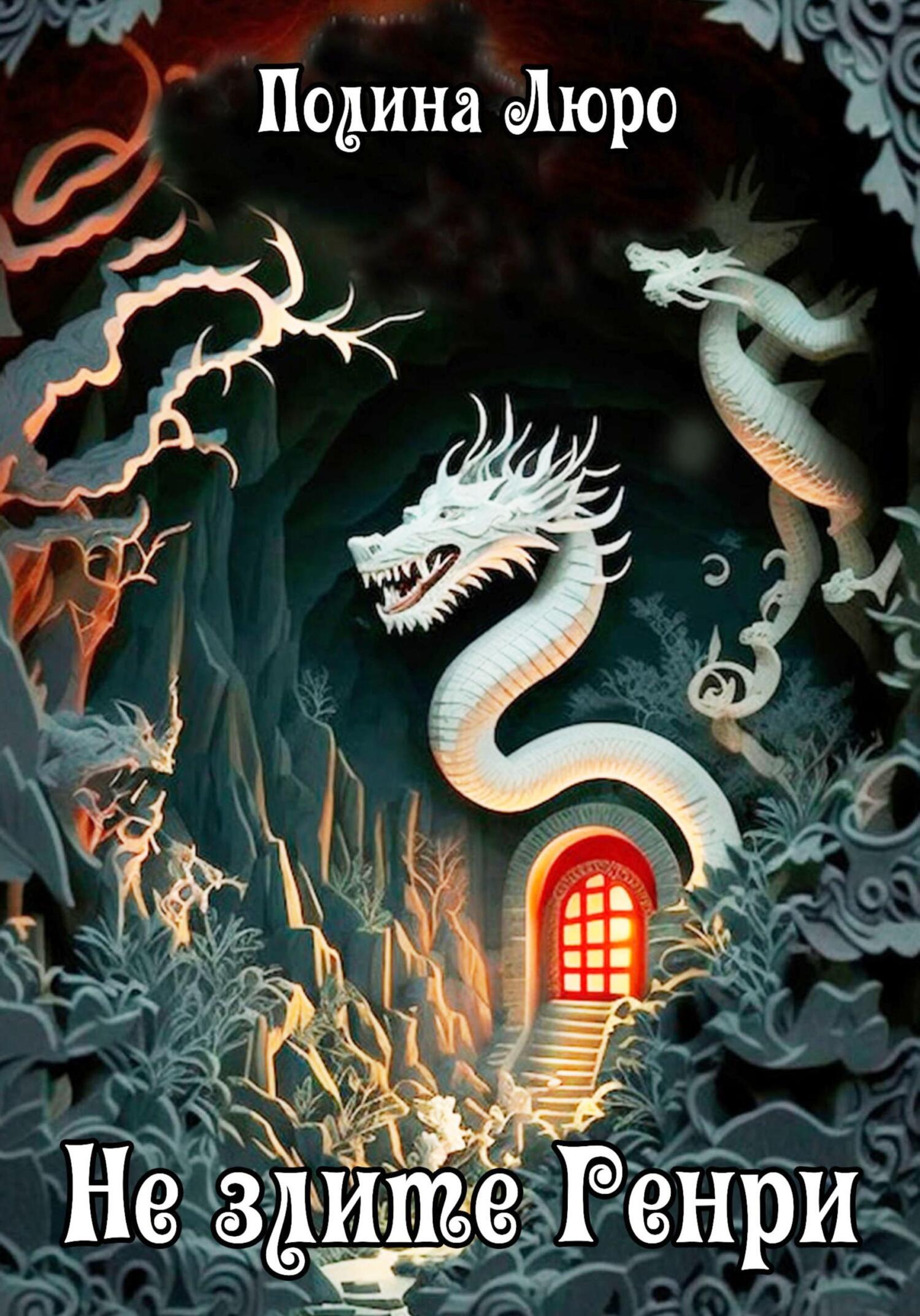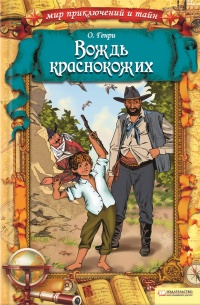уверен, что делалось это, для того чтобы согреть птенцов, во всяком случае, не для отдыха – в предыдущие дни дежурства я заметил, что, устав, ласточка залетала отдохнуть в одно из пустующих соседних гнезд.
Последний день подошел к концу. Уже в четыре сгустились ранние сумерки, и ласточки вместе с птенцами легли спать.
Утром, несмотря на ощутимую прохладу, могло показаться, что вместо ноября пришел апрель: ветер был тих и приятен, а с вымытого до блеска неба светило солнце, такое волшебное, что, казалось, его лучи способны возродить мир и вдохнуть жизнь даже в умирающее. Ласточек нигде не было, из гнезда доносилась кромешная тишина. Обождав пару часов, я взял лестницу, снял гнездо и обнаружил в нем тельца двух птенцов, совсем взрослых. Один них умер считаные часы назад, в два или в три ночи, не дождавшись победы света над тьмой; другой, судя по его виду, был мертв уже несколько дней.
Этот единичный и редкий (возможный лишь при варианте появления очень поздних птенцов) случай, который я имел шанс наблюдать в Уэлсе, наводит меня на мысль, что наше представление о том, что побуждение или влечение лететь на юг вынуждает ласточек покидать поздний выводок, тем самым обрекая его на голодную смерть в гнезде, ошибочно. Чтобы утверждать это наверняка, нужны дополнительные наблюдения, но описанный случай свидетельствует о том, что пока птенцы живы и способны подавать сигналы голода, доминирующим инстинктом у взрослых птиц остается родительский инстинкт, подавляющий или держащий под контролем побуждение лететь в теплые края; и пока эти требовательные крики не прекратятся и птенцы не окоченеют, «необоримое дуновение» не властно подхватить птиц в небо и увлечь на юг, словно ветер – пух чертополоха.
В своей книге «Перелетные птицы» (1897) на сто двенадцатой странице Диксон рассказывает о случае, когда пара деревенских ласточек в первые дни ноября улетела в теплые края, бросив без пяти минут самостоятельных птенцов, правда, не уточняя, покинули те гнездо или нет. Не говорит он и о том, сам он наблюдал этот случай или ему рассказали. А ведь птенцы (если они не покинули гнездо) могли умереть еще до отлета родителей. К тому же, даже если этот и подобный ему случаи действительно имели место, они могут быть исключением из общего большого правила. Как являются исключением несколько ежегодно остающихся на зимовку ласточек – с приходом холодов такие птицы становятся как бы полусонными, а повезет, какая-нибудь одна из них даже дотягивает до весны. Эти редкие случаи легли в основу заблуждения о том, что ласточки впадают в зимнюю спячку, – заблуждения, разделяемого даже некоторыми серьезными натуралистами вплоть до начала XIX века. Сегодня мы твердо знаем, что полусонные зимние ласточки – это исключение из общего большого правила и что основная масса ласточек каждую осень улетает зимовать в Африку.
Но вернемся в конец октября, когда маятник участи молодых ласточек еще мог качнуться в любую сторону и мы много говорили об этом с моими старыми знакомцами – рыбаками и охотниками, то и дело переходя на ласточек в целом. Один из них припомнил, как прошлой зимой, в яркий солнечный день середины декабря 1911 года, оказавшись в деревушке Уорхем неподалеку отсюда, он увидел на пруду пять или шесть ласточек, медленно летавших над водой. Они часто садились на неказистый ежевичный куст у воды и от холода были такими пришибленными, что казались ручными – он даже попробовал снять одну из них с куста рукой. Он решил, что стал свидетелем уникального природного явления, но правда заключается в том, что ласточки, пусть и не массово, остаются зимовать и их встречают по всей Англии до середины зимы, просто эти случаи нигде не фиксируются. К тому же какая-то часть оставшихся ласточек зашивается в укрытия, надеясь в полусонном состоянии дотянуть до первого по-настоящему солнечного дня, который оживит их и разбудит своим теплом. Однако до весны доживают лишь считаные единицы зимующих.
Еще об одном любопытном случае поведал мне старый-престарый охотник на птиц, чья молодость прошла в маленькой деревушке под Роксхем-Бродом. Их дом облюбовали ласточки и каждый год вили у них гнезда и воспитывали птенцов. Его семья ценила своих пернатых квартирантов и гордилась ими. Каждую весну охотник прибивал над входной дверью противопометную доску. А одной весной случилось вот что: не успела пара ласточек построить гнездо над дверью, как в нем самым наглым образом обосновалась пара воробьев, застолбив свое новое владение мгновенно отложенными яйцами. Ласточки не стали драться, но и не стали улетать; они тотчас взялись вить новое гнездо впритык к старому, а поскольку вход должен был смотреть в прежнем направлении, новое гнездо вилось задом к захваченному. Строительство велось ускоренными темпами, и скоро вход в старое гнездо оказался заблокирован. Воробьи исчезли: так браво захватив чужую собственность, они почему-то так беззубо дали себя вытурить. Закончилось лето, ласточки улетели на юг, и мой рассказчик полез снимать противопометную доску. Открывшееся двойное гнездо показалось ему столь любопытной конструкцией, что он решил снять его и изучить. Представьте себе его изумление, когда, освободив заблокированное гнездо, он обнаружил самку воробья – покрытый перьями скелет, верно сидящий на четырех яйцах!
Глава XXVII. Прощание с вольными крыльями
Обилие диких гусей
Серые вороны
Их вечерние забавы
Общительный и пестрый слет
Как играют цапли
Проказы галстучников
Чайка и чибис
Скворцы преследуют пустельгу
Полет скворцов с дикими гусями
Как ведут себя стаи скворцов
Раненый гусь и травники
Любопытная ворона
Вечерний прилет гусей
Перелетные вороны и дрозды-рябинники
Прощальный взгляд на диких гусей
Несмотря на участие в судьбе ласточек, всё это время я не отказывал себе в удовольствии наблюдать за дикими гусями. Их, как всегда, прилетели «несметные тысячи», но охотники в один голос утверждали, что этой осенью их особенно много. Одной из возможных причин такого гусиного «нашествия» могло послужить необычайное обилие корма на полях – значительная часть урожая кукурузы осталась лежать прибитой к земле августовскими и сентябрьскими ливнями. То, что фермерам было убытком, диким гусям обернулось чистой выгодой. Все подстреленные гуси, которых мне довелось увидеть той осенью, были жирны, их зобы были полны кукурузы, и в целом дикие гуси казались совершенно счастливыми; видя над городом их тучные стаи, оглашающие окрестности неумолчным гоготанием и криками, можно было легко представить, что это они так смеются с неба: «Ха-ха-ха! Жизнь – это праздник, и, как ни старайтесь, вы нам его не