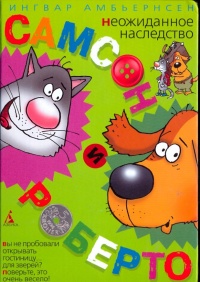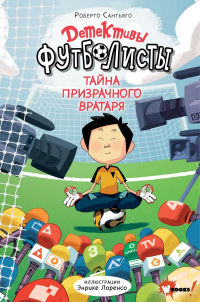всю ночь напролёт, ориентируясь по звёздам, до самого острова Санторини…
На следующий день верхом на бушприте сидел темноволосый мальчик. Одной рукой он ухватился за канат кливера, а другой держался за гребень деревянного дракона, украшавшего нос корабля. Мальчик этот был юнгой на «Тигрисе», и звали его Мадурер.
– Значит, на свете не я один ношу это имя? – быстро спросил Мадурер.
– Разумеется, не ты один. Кто знает, сколько ещё Мадуреров, кроме тебя… – отвечал Сакумат.
– Да, и один из них – юнга на «Тигрисе», – заключил мальчик.
Он сидел верхом на атласной подушке, крепко сжимая её коленями. Глаза его были устремлены на море, кипящее за форштевнем.
Глава девятая
Однажды ночью Мадурер с криком проснулся. Когда Сакумат и Алика подошли к его постели, он лежал, свернувшись калачиком, и бредил.
К утру он успокоился и лежал очень бледный. Возле рта и на лбу ещё блестели капельки пота.
Гануан дежурил у постели сына вместе с Сакуматом.
– Время от времени с ним это случается, хотя и не часто, – сказал правитель, вглядываясь в лицо уснувшего мальчика. – Иногда проходит несколько месяцев, но никогда не больше десяти. Потом ещё неделю или две бывает слабость и он подолгу спит, а под конец становится бойким и весёлым, как прежде. Так происходит, когда в воздухе скапливается много вредных для него веществ. Здесь он хотя и ограждён от этого, но всё же не в полной мере. И приступы лихорадки, как говорят врачи, помогают его организму очиститься.
– Я вот думаю, господин, – произнёс Сакумат, не поднимая головы, – не вредны ли для него краски, которыми я пишу. Я стараюсь пользоваться ими как можно аккуратней, но, может быть, этих мер предосторожности всё-таки недостаточно?
– Не беспокойся, мой друг, – отвечал Гануан. – Этот приступ ничем не отличался от предшествующих и наступил не раньше, чем обычно. Наоборот, на сей раз промежуток был самым длинным. К тому же я с самого начала посоветовался о такой возможности с учёными лекарями, и все они её исключают. Твои краски могут быть для моего сына только источником радости.
Всё было так, как сказал бурбан. В последовавшие затем дни Мадурер, хоть и слишком ещё слабый, чтобы встать с постели, не выказывал больше никаких признаков беспокойства. В промежутках между сном, занимавшим у него почти половину дня, он начал снова разговаривать с художником.
– Нам осталось расписать третью комнату, Сакумат…
– Да, и как мы её распишем?
– Я об этом думаю, но ещё не придумал.
– Но нам некуда спешить, мой друг. Ты устал, да и я, признаться, немного. Не будет никакой беды, если мы прервём ненадолго нашу работу.
– Да, конечно. Но мысли меня не утомляют. Это происходит само собой, так что я всё равно буду об этом думать.
Мальчик попросил, чтобы его постель перенесли в третью комнату, с ещё нетронутыми стенами. Он подолгу смотрел на них в тишине, приложив ладонь к губам, с серьёзным и сосредоточенным видом.
– Можно мне узнать, о чём ты думаешь, Мадурер? – спросил Сакумат через некоторое время.
– Понимаешь, это не совсем мысли, Сакумат, это разные желания, которые борются между собой… несколько образов борются у меня в мыслях. Я знаю, что один из них обязательно победит, но пока ещё нельзя предсказать какой.
– Ты не хочешь рассказать мне об этих образах, Мадурер? Может быть, если облечь их в слова, то решить будет легче?
Но мальчик уже снова погрузился в сон. Эти периоды сна (такой крепкий сон наступает только после большой усталости) длились у него не меньше двух часов.
Тогда Сакумат выходил из дворца и, оседлав своего старого коня, медленно ехал через всю деревню, провожаемый любопытными взглядами жителей, которые, несомненно, знали о его пребывании во дворце.
Когда же в ответ на самые пристальные взгляды он наклонял голову в знак приветствия, прохожие, быстро кивнув, спешили удалиться.
Выехав из деревни, Сакумат давал волю коню, не пуская его, однако, во весь опор. У того и так оставалось не много сил, и сам художник после месяцев напряжённой работы заново и не сразу обретал подвижность и вкус к верховой езде. Но взгляд его летел вперёд намного быстрее коня. Широкие каменистые склоны долины улетали из-под копыт, но образ её возвращался к нему, словно эхо – очищенный и прозрачный. Ему казалось, что каждая её неровность, каждый камень и оттенок, открываются ему с новой полнотой, и он уже заранее знал, что приберегает для него неспешно разворачивающийся пейзаж…
Возвращаясь, он почти всегда заставал мальчика ещё спящим и, присев у постели, ждал его пробуждения, а если Мадурер не спешил проснуться, то подолгу ходил вдоль стен расписанных комнат, вновь и вновь отмечая взглядом каждую деталь, каждый след их совместных игр и размышлений.
Глава десятая
– Знаешь, Сакумат, вначале я думал, что море будет и в третьей комнате тоже, – сказал мальчик, продолжая рукой линию горизонта. – Ведь море такое огромное, и его никогда не бывает слишком много. Я думал, что мы могли бы добавить несколько островов и ещё несколько кораблей, и этот план мне нравился. Там могли бы быть и дельфины, и рыба-меч, и выпрыгивающий из воды кит. Могли бы?
– Конечно.
– Но потом что-то меня остановило. Я подумал, что хотя моря никогда не бывает слишком много, но всё же это было бы чересчур. Море очень далёкое. И вся даль куда-то ускользает, понимаешь?
– Кажется, понимаю, Мадурер. Когда смотришь на море, глаза не могут ни на чём остановиться, и, когда стоишь перед морем, ноги устают от неподвижности. Наверно, это тебя остановило. Но что же ты придумал?
– Тогда мне пришла в голову новая мысль – написать что-то вроде моря, но не такое далёкое. Что-то большое, но близкое.
– И что же это такое, Мадурер?
– Это луг. С травой и цветами. Но не такой, как мы делали в горах и среди холмов. Те были увидены издалека. А этот – очень близкий.
– Луг. Большой и близкий, – повторил Сакумат.
– Да, как море, только ближе, понимаешь? Чтобы он был всюду, как будто находишься внутри него, в самой середине.
– Хорошо, напишем луг, Мадурер.
– Мне нужно ещё что-то тебе сказать. Но сейчас очень захотелось спать. Я скажу тебе это потом, Сакумат.
Иногда, пока